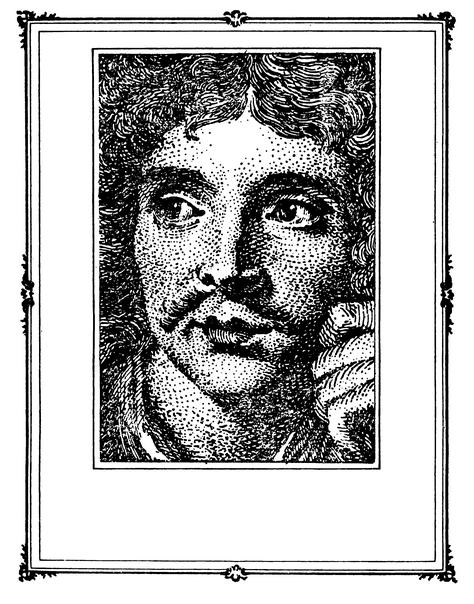
| Категория: | Критическая статья |
| Связанные авторы: | Мольер Ж. (О ком идёт речь) |
Ю. Гинзбург, С. Великовский
КОМЕДИОГРАФ «ВЕЛИКОГО ВЕКА»
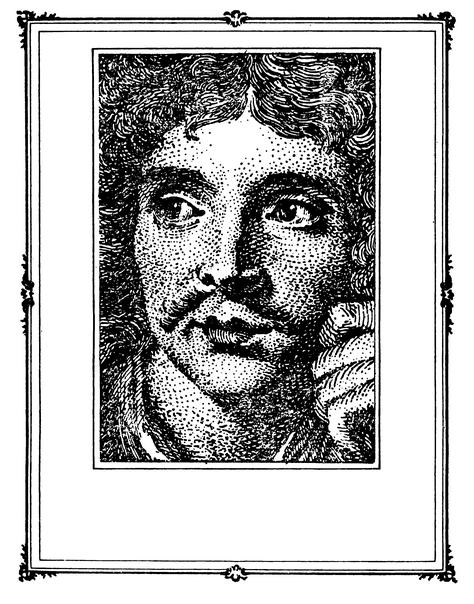
Семнадцатый век в истории Франции у самих французов зовется «Великим» и вплоть до наших дней остается точкой отсчета для их национального самосознания. И те, кто размышляют о складе и судьбе французской культуры с горделивым восхищением, тщеславной заносчивостью или ностальгической грустью, и те, кто вглядываются в свою страну и своих соплеменников с тревожным беспокойством, горьким раздражением или запалом ниспровергателей, - все неизменно обращаются к «Великому столетию» как к истоку и образцу. Дело тут не столько в державной мощи и культурном первенстве тогдашней Франции в Европе, сколько в отчетливом выявлении глубинных свойств национального характера, законов национальной жизни, всем последующим ходом событий не опровергнутых и так или иначе на нем отозвавшихся. Сделав все оговорки об опасности подобных размашистых сравнений, позволительно сказать, что эта полоса французской истории в государственно-политическом плане сопоставима с эпохой Петра для России, а в культурном - с пушкинским временем, как бы совместив знаменующие их важные сдвиги в тесном пространстве нескольких десятилетий.
В том веке, довершавшем трудную работу предшествующего столетия, выкристаллизовывалось само понятие «Франция»: ее географическая протяженность, внутренняя цельность, язык, правила житейского поведения, тип отношений государства с экономической, гражданской, культурной деятельностью, столицы с провинцией, религиозной морали с мирскими нравами, эстетической рефлексии с художественным творчеством. Но о каком бы пласте ни вести речь, одно свойство «Великого века» проступает несомненно, заключая в себе, быть может, и условие его величия: здесь все еще устанавливается или только-только установилось. Те идеи, нормы, учреждения, привычки, что одерживают верх, еще не застыли в надменной неподвижности, а самоутверждаются со всей молодой энергией.
«цивилизующий центр» (по Марксу), а не зловеще-ненавистный «старый порядок», каким он предстанет просветителям и поколению революционеров 1789 года. Управляемые королевскими интендантами французские провинции - это не прежние полуобособленные графства и герцогства, но и не единообразные клеточки будущих департаментов. Аристократы, из непокорных феодалов превращаясь в придворных, еще не сделались расслабленными куклами; буржуа, пока не осознав себя как «третье сословие», поддерживают трон, а не расшатывают его. Католической церкви во Франции уже не страшны всерьез гугеноты, но ее учение вынуждено отстаивать себя во внутренних спорах между ортодоксальной доктриной папского Рима, казуистикой иезуитов и клонящейся к протестантству ересью янсенизма. А там, где философия отделяется от собственно теологии, противостоят друг другу картезианский рационализм и неоэпикурейство Гассенди. С Декартом наука переходит от собирания разрозненных догадок о природе и метафизического раздумья о тайнах мироздания к собственно научному методу теоретически обоснованного эксперимента и систематизации опытного знания. Язык тогдашней литературы устоялся настолько, что к нынешнему французскому он едва ли не ближе, чем к нам русская письменная речь начала прошлого века, но не окован накрепко статьями Академического словаря. Классицистическая поэтика складывается из наглядных уроков мастерства, в нешуточной борьбе, соревновании и взаимопроникновении с барокко, бытовым реализмом, традициями народного фарса. Ее законы не обратились еще в защитное прикрытие для эпигонов, одряхлевшую твердыню, которую спустя полтора столетия будут штурмовать юные бойцы романтизма повсюду в Европе. Центростремительное движение, надолго определившее развитие французского общественного организма и самый уклад французской цивилизации, несет в себе угрозу апоплексии, но поначалу сказывается повышенным тонусом.
При всем величии век не был «золотым» (разве что в буквальном смысле своей приверженности к торжественно раззолоченной роскоши), идиллически безмятежным. Многочисленные и не всегда победоносные военные кампании, пышность дворцовых затей, распри сеньоров с королем и его министрами обходились дорого; расплачивался бедный люд - нищетой, эпидемиями, краткостью жизненного срока. Крестьянские бунты-жакерии вспыхивали тут и там - и погашались с кровавой беспощадностью. Участь наемных рабочих - прослойки, растущей по мере вытеснения средневековой кустарной мастерской мануфактурным производством, - едва ли не еще беспросветнее. Да и умственные занятия были вовсе не безопасны. Наградой за них отнюдь не всегда становилась королевская пенсия и удобная синекура; дело могло обернуться запретом печататься, заточением в Бастилию, телесной расправой, а в исключительных, правда, но все же имевших место случаях - и костром.
Под словосочетанием «Великий век» подразумевается обычно не все XVII столетие, а его срединная часть, приблизительно 30-80-е годы, - от окончательного укрепления кардинала Ришелье как полновластного хозяина страны до отмены Людовиком XIV Нантского эдикта, которым некогда его дед Генрих IV обеспечивал своим былым единоверцам-гугенотам возможность сносного существования в католической Франции. Или, в другой перспективе, - от появления на сцене пьес Корнеля до выхода в свет последнего из литературных шедевров «Великого века», «Характеров» Лабрюйера. Строго говоря, и этот отрезок распадается надвое - считая пограничной чертой начало единоличного правления Людовика XIV после смерти Мазарини (1661) и вступление в литературу тех, кого повелось называть «школой 1660 года», - Мольера, Лафонтена, Расина, Буало. Первые десятилетия царствования Короля-Солнца и есть апогей «Великого века»; предшествующие годы внутреннего брожения, заговоров и Фронды - предисловие, подготовка к нему.
Мольеру выпало жить на самой оси, в самом средоточии этого судьбоносного для Франции времени. Для начала «Великого века» ключевая фигура - Корнель; для его завершения - Расин; Мольер моложе Корнеля на те же полтора десятка лет, на какие он старше Расина. Он не понаслышке был знаком с жизнью едва ли не всех сословий тогдашнего общества, снизу доверху; едва ли не всю страну исколесил из края в край; едва ли не все токи умственных поветрий и художественных поисков через него проходили. И едва ли не все лики времени разыгрывали себя на подмостках его комического театра. Как «Великий век» был фокусом, в котором сошлись лучи национальной истории, так на его комедиографе скрестились лучи национальной культуры. У Мольера ясный разум, «острый галльский смысл», не перерождается в холодную рассудочность, как то случится во французской словесности следующего столетия. Смелое воображение у него не подавлено умозрительным расчетом, но и не отдано на произвол неистовой фантазии, как поведется с романтиков, стократ усиливаясь у их дальних потомков. Точность наблюдений и достоверность рисунка в мольеровских пьесах не распыляются мелочным бытописательством. Здесь горечь умерена добротой, веселость наполнена мудростью, трезвость смягчена надеждой. Как никто из его собратьев-сверстников, Мольер воплотил суть и душу «Великого века». Не потому ли и мольеровский театр оказался жизнеспособнее, устойчивее к смене времен и вкусов, чем творения прочих художников XVII столетия? Мольер олицетворяет Францию - и принадлежит всему миру.
1
В книге парижской церкви Святого Евстахия запись о крещении младенца, который нам станет известен под именем Мольера, помечена 15 января 1622 года. Это значит, что родился он за день-два до этого: в те времена с крещением новорожденных не мешкали. Нарекли ребенка Жаном. Его отец, тоже Жан Поклен, и оба деда были обойщиками, то есть мастерами по обивке тканями стен и мягкой мебели, устройству интерьера. У родителей Мольера собственный дом вблизи Рынка - знаменитого Чрева Парижа, в бойком торгово-ремесленном квартале. Семья растет год от года, но и утраты ее не обходят: умирают в малолетстве дети, а вскоре, совсем молодой, и мать, Мари Крессе. Дела же идут, очевидно, неплохо, потому что незадолго до того Жан Поклен покупает должность королевского обойщика и камердинера короля. Это вершина профессиональной карьеры для ремесленника. Когда Жану-Батисту (так стали звать будущего Мольера после рождения его младшего брата Жана), первенцу и наследнику Жана Поклена, исполняется 15 лет, он тоже вступает в цех обойщиков, и отец добивается от короля привилегии, позволяющей ему назначить сына своим преемником. Но к тому дню Жан-Батист уже два года как был учеником Клермонского коллежа, что для обойщика явно излишне и ненужно. Очень вероятно, что, выбирая сыну будущее, Жан Поклен-старший руководствовался не желанием повторить в нем свою судьбу, а совсем иными социальными амбициями.
платить налоги и исполнять повинности, от которых дворяне были избавлены. Конечно, и Ришелье и Людовик XIV в заботе о благосостоянии и спокойствии государства, имея к тому же веские основания не доверять аристократической вольнице, благоволят к трудолюбивым, рачительным, добропорядочным горожанам - купцам, мастерам-ремесленникам, владельцам мануфактур, - обласкивают самых зажиточных и влиятельных из них. Но главное не в символических милостях и личных знаках внимания. Насущное дело власти - попечение о развитии национальной промышленности. За что и возьмется в недалеком будущем особенно рьяно Кольбер - сын суконщика, ставший королевским министром. Кольберовские законодательные меры, поощрявшие производство и вывоз французских товаров, а ввоз товаров из-за границы сокращавшие, ограждали французских буржуа от конкуренции, помогали им копить деньги, увеличивая тем самым денежные запасы страны. (При взгляде в дальнее будущее, однако, выясняется, что услуги, оказанные Франции политикой Кольбера, скорее двусмысленны: привыкшие к государственной опеке французские промышленники будут заметно уступать в деловой предприимчивости своим собратьям из тех стран, где правительства традиционно предпочитали поменьше вмешиваться в хозяйственную жизнь.) Но при этом социальную свою униженность буржуа, быть может, ощущал еще острее. Силы духа на плебейскую гордость хватало далеко не у всех. А потому богатый буржуа лелеял мечту о дворянстве, если не для себя, то хотя бы для своих детей. Мечту эту можно было осуществить разными способами - скажем, породнившись с обедневшим дворянским семейством или просто присвоив дворянское звание без особых на то прав. Но был и более достойный путь наверх. Некоторые должности, преимущественно судейские, давали право на дворянство, точнее, на особый его разряд, называемый «дворянством мантии» (в отличие от «настоящего», родового дворянства - «дворянства шпаги»). Чтобы занять такую должность, нужны были деньги - и соответствующее образование. Вот за этим, скорее всего, и послал Жан Поклен своего старшего сына учиться в Клермонский коллеж.
Коллеж находился в ведении иезуитов и был лучшим средним учебным заведением в Париже. Учебная программа включала в себя естественные науки, древние языки, философию. Познания в античной, преимущественно латинской, словесности - основе тогдашнего образования - давались прочные и разнообразные. Во всяком случае, этих познаний Мольеру хватило, чтобы свободно читать в подлиннике Плавта и Теренция, многих других авторов - классических и поздних, поэтов, риторов, историков - и сделать стихотворный перевод поэмы Лукреция «О природе вещей», безвозвратно впоследствии пропавший.
После окончания коллежа Жан-Батист Поклен получил степень лиценциата права и даже выступил несколько раз в суде как адвокат. Путь к чиновничьей карьере был открыт, а в случае неудачи можно было вернуться к родительскому ремеслу. Но ни стряпчим, ни обойщиком Поклен-младший не стал. В двадцать один год он отказался от своих прав на отцовскую должность, взял часть денег из причитающейся ему доли материнского наследства и, освободившись от всех прежних уз и обязательств, пренебрегши всеми трезвыми расчетами на будущее, безоглядно предался своей неодолимой страсти к театру.
Первая половина XVII века для театра - время перехода с площадных подмостков на сцены специально оборудованных и более или менее роскошно украшенных залов, от забавы для простонародья - к пище для изысканных умов, от очередной недолговечной поделки - к добротной литературе. Но совершался этот переход двумя основными театральными жанрами, трагедией и комедией, неравномерно. Трагедия имела уже во Франции прочную литературную традицию, а с громким успехом в 1636 году корнелевского «Сида» (вызвавшего сразу бурные рукоплескания и яростные нападки) стала первенствующим жанром. Корнелевские напряженные коллизии, герои, которым по плечу власть над полумиром и даже над самим собой, - все это как нельзя лучше отвечало настроениям времени, отлившимся в философии Декарта с ее верой в возможности человеческого разума и воли, в превосходство поступка, деяния над вялой нерешительностью. А сила убеждения и заразительности, заложенная в самой природе сценического искусства, столь велика, что может сделать из театра грознейшее идеологическое оружие. Проницательный Ришелье это понимал. Он построил первое в Париже помещение, специально предназначенное для театра (тот самый зал во дворце Пале-Рояль, где впоследствии, с 1661 по 1673 год, будет играть мольеровская труппа); будучи сам не чужд писательского честолюбия, он пытался искать славы именно как трагический автор. Что важнее, Ришелье распространял на театр свои меры по «огосударствлению» искусства - предвестие той культурной политики, которую будут последовательно проводить при Людовике XIV Кольбер и его преемники. Только что учредив Французскую академию, Ришелье потребовал от нее вмешаться в спор о «Сиде» и вынести официальный вердикт. А несколькими годами позже сделал попытку улучшить социальный статус комедиантов, отверженных в глазах церкви и общества: издал за подписью короля указ, коим предписывалось не вменять актерам в бесчестие их ремесло «в случае, если оные актеры будут представлять театральные действа так, чтобы вовсе в них не было непристойности…». Оговорка многозначительная, имеющая в виду, конечно, комических актеров прежде всего.
Комедия в ту пору была совсем в ином состоянии. Правда, она уже существовала как литературный жанр, сам Корнель начинал свою работу с комедии. Но ранние его пьесы при всех незаурядных достоинствах были тяжеловаты - и попросту не смешны. В комических сочинениях других литераторов встречались удачные шутки, забавные персонажи; и все-таки, желая поразвлечься, парижане обращались к старому площадному фарсу - или шли к итальянцам. Итальянская труппа в Париже ставила спектакли в стиле комедии дель арте - с условными масками, запутанной интригой и множеством трюков, буффонад, шуток, не связанных впрямую с действием, которые импровизировались актерами или извлекались из уже существующего, сохраненного традицией запаса. Итальянцы играли перед публикой, не знающей итальянского языка, что заставляло их особенно заботиться о пластической выразительности актерской техники, и без того, впрочем, виртуозной. (В сходном положении оказались в свое время актеры немого кино, сходным образом и преодолевавшие затруднения «бессловесности».) Успех у итальянцев по всей Франции был огромный.
тем, что мы привыкли называть «галльским юмором». Фарсы шли и на театральных сценах - в заключение спектакля, после того, как кончалась трагедия; к этому моменту женщины покидали зал. Но в то время, когда Жан-Батист Поклен решил стать актером, этот обычай уже сходил на нет. Зато на подмостках ярмарочных балаганов, на бойких торговых перекрестках, у палаток «шарлатанов» - продавцов всяких чудодейственных снадобий, - зазывая прохожих, скакали на канатах плясуны, кривлялись ученые обезьянки, глотали змей фокусники и уличные комедианты разыгрывали свои нехитрые представления.
По свидетельству одного из тех злобных, но неплохо осведомленных пасквилянтов, что будут подсвистывать Мольеру всю жизнь и после смерти, уроки мастерства Жан-Батист брал и в Итальянской комедии (у знаменитого Тиберио Фиорилли, более известного под именем созданной им маски - Скарамуш) и у ярмарочных зазывал. Но начинал он свою самостоятельную актерскую карьеру совсем иначе. Вместе с несколькими столь же неопытными (или неудачливыми) актерами Жан-Батист создает театр, названный без ложной скромности Блистательным. Репертуар Блистательного театра состоит в основном из трагедий; юный Поклен, следовательно, пробует себя в трагическом амплуа. Впрочем, теперь его уже зовут Мольер; это имя впервые появляется на одном из документов Блистательного театра. Сам же театр просуществовал немногим более полутора лет, не выдержав соревнования с двумя профессиональными парижскими труппами - Бургундским отелем и Маре. Это и неудивительно: по всей видимости, среди его основателей только одна актриса, Мадлена Бежар, обладала трагическим дарованием. Театр потерпел финансовый крах, а Мольер, к тому времени уже ставший ответственным лицом в труппе, даже угодил на несколько дней в тюрьму за долги. Когда дела были кое-как с помощью родственников улажены, нужно было решать: либо менять ремесло, либо попытать счастья в провинции. Мольер и немногие из его друзей - Мадлена Бежар, ее сестра и брат - предпочли второй путь.
Тринадцать лет странствий по всей Франции сначала в качестве рядового члена бродячей труппы, а затем ее руководителя были для Мольера школой суровой. Но лучший способ накопить душевной стойкости, житейских впечатлений, деловой хватки, профессионального мастерства, наверно, трудно и придумать. Учиться пришлось многому: находить могущественных покровителей, вербовать талантливых актеров и ладить с ними, угадывать зрелищную конъюнктуру в разных частях страны и соответственно составлять маршрут, вести переговоры с прижимистыми и чванными отцами города; а время не слишком благоприятствовало развлечениям - кончалась Тридцатилетняя война, бушевала Фронда. Но главное - следовало вырабатывать умение нравиться публике, тем именно зрителям, которые сегодня соберутся на представление, дается ли оно в замке вельможи или на рыночной площади. Надо было овладевать нелегким искусством «считать пульс толпы». А взамен эта пестрая, разноликая «толпа» своим согласным приговором помогла Мольеру разглядеть самого себя, нащупать подлинно бесценный свой дар - дар комического актера. Именно фарсовыми спектаклями Мольер и его товарищи снискали себе славу лучшей провинциальной труппы. Но репертуар требовалось постоянно обновлять, и для руководителя кочующей труппы удобнейшим выходом из положения было самому сочинять пьесы - комедии и фарсы, вернее, основную канву для этих «маленьких развлечений», как Мольер их называл. Юноша, видевший себя на сцене Цезарем и Александром, стал фарсером и комедиографом едва ли не поневоле; во всяком случае, мечты о трагедии он еще долго не оставлял.
Поднакопив опыта и денег, Мольер и его товарищи в 1658 году решились вернуться в Париж и сделать новую попытку создать свой театр в столице. Культурное первенство Парижа, которое впоследствии обратится в жесткую монополию, к тому времени обозначилось уже явственно и непререкаемо. В Париже - тонкий вкус, правильная речь, изящные манеры; в провинции - грубость, невежество, вульгарность, и, явись у деревенщины претензия подражать столичным образцам, выйдет, скорее всего, не копия, а карикатура. Так что недавним бродячим комедиантам утвердиться в столице было очень непросто.
Мольер начал с того, что заручился покровительством брата короля, Месье, получил для своих актеров право называться «Труппой Месье» и добился высшей милости: разрешения показать свое искусство в Лувре, самому королю. Двадцатилетний Людовик XIV был в восторге от мольеровского фарса «Влюбленный доктор», до нас не дошедшего, и обласкал Мольера и его товарищей; отныне они станут частыми гостями в королевских замках.
«города» - парижской публики. «Труппа Месье» явилась на ее суд со смешанным репертуаром. Когда шли трагедии (по преимуществу корнелевские), успех был весьма посредственный; по некоторым свидетельствам, их просто освистывали. Но Мольер привез с собой из провинции и несколько пьес собственного сочинения - «Шалого», «Любовную досаду». Они-то и принесли труппе пылкое одобрение столичных зрителей, стосковавшихся по веселью. Правда, успехом своим они были обязаны скорее точно угаданному настроению публики и актерскому искусству Мольера, чем его авторскому мастерству.
«Шалый» и «Любовная досада» составляют как бы пролог к мольеровскому театру. Первое его действие, «первый круг» мольеровских комедий открывается сочинением, написанным уже в Париже, - «Смешными жеманницами» (1659). По всем своим внешним признакам это фарс: пьеса одноактная, в прозе, с грубоватыми шутками, побоями, раздеванием; она и шла, как обычно шли фарсы, в конце представления, после «большой» пьесы; а одну из ролей в ней играл Жодле - последний фарсер парижской сцены, перешедший к Мольеру из театра Маре под занавес своей актерской карьеры. Тем не менее сам Мольер предпочитал называть эту пьесу комедией, очевидно сознавая всю ее значительность и необычность.
«Жеманницы» ошеломляли зрителей своей открытой злободневностью. Русский перевод заглавия эту злободневность не вполне доносит: речь в пьесе идет именно о «прециозницах» и прециозности, а не о жеманстве вообще. Прециозность, царившая в столичных салонах, была одновременно и образом жизни, и манерой одеваться, и философическим размышлением, и стилем искусства. Объединял разнообразные проявления прециозности упрямый отказ признать и принять действительность в ее земном, плотском, то есть низменном и грубом, обличье, в ее природной и социальной подлинности. Хозяйки и посетители прециозных салонов старались создать посреди повседневности некие оазисы идеального, уголки рукотворного парадиза, где все было бы возвышеннее, изящнее, нежнее, не так, как всегда, не такое, как у всех, - иное: чувства, имена, язык, платье. Элитарность прециозного самосознания была хотя и связана с приступами больно ущемляемой сословной гордыни, но им не тождественна: в прециозных гостиных между посвященными мелькали люди низкого звания, сама Мадлена де Скюдери, автор романов-учебников прециозной галантности, отнюдь не могла считаться знатной дамой, да и гостиные после разгрома Фронды помещались по большей части не в герцогских особняках, а в домах просвещенных буржуазок. Необходимым условием вхождения в прециозный кружок была, скорее, принадлежность к некоей «аристократии духа». Любви в обществе обитателей искусственного рая полагалось быть долгим, трудным, бескорыстным служением неприступной красавице; беседам - превращаться в нескончаемые диспуты о тайнах сердечных движений; речи, обыденной или поэтической, - изобиловать сложными перифразами; житейскому поведению - отвергать заповеди мещанского здравомыслия. Прециозный салонный идеализм был, в сущности, барочным продолжением давней традиции средневековой куртуазности и ренессансных утопических мечтаний о блаженной жизни в тесном, отделенном от остального мира сообществе избранных, совершенных душой и телом.
С точки же зрения того самого презренного здравого смысла, принятой автором «Смешных жеманниц», эти изысканные претензии выглядели бредовыми химерами, за которыми в лучшем случае скрывалось легкое помешательство, в худшем - лицемерное притворство. Ни подлинного благородства души, ни подлинной тонкости вкуса, ни подлинной телесной красоты, ни даже подлинной учтивости - все кривлянье, румяна, подделка.
Салоны почувствовали себя задетыми: по слухам, некий знатный завсегдатай альковов пытался воспрепятствовать представлениям «Смешных жеманниц»; так или иначе, пьесу, делавшую большие сборы, дважды на некоторое время снимали с афиши. Но Мольер поспешил заверить, что он имел в виду не блистательных столичных дам, элегантных кавалеров и остроумных стихотворцев, а неуклюжие провинциальные пародии на них. Заинтересованные лица предпочли удовольствоваться таким объяснением, и дело на сей раз кончилось худым миром.
«Смешные жеманницы» заканчиваются проклятиями Горжибюса по адресу «виновников помешательства» юных девиц - «романов, стихов, песен, сонетов и сонетишек», - и Горжибюс здесь воплощает здравый житейский взгляд на вещи, а слова эти звучат как естественный вывод, «мораль» пьесы. В следующей комедии Мольера, поставленной всего через пять месяцев после «Жеманниц», - «Сганарель, или Мнимый рогоносец» - персонаж, носящий то же имя Горжибюс и исполняющий ту же роль отца молодой девушки, с той же яростью обрушивается на «глупые книги», «романы», требуя читать одни лишь нравоучительные сочинения. Но теперь этот защитник вековечных семейных устоев выставлен жестоким и смешным деспотом, а все сочувствие отдано влюбленной дочке, потребительнице тех самых «сонетишек».
Разгадка такой непоследовательности в неоднозначности самих прециозных умонастроений. Прециозная утопия не просто порождала смехотворные ужимки, несуразные моды и напыщенные речи. Она противостояла действительности, достаточно суровой в том, что касалось семейного, имущественного, правового положения женщины. И хотя во Франции женщина пользовалась несравненно большей свободой, чем в других странах тогдашней Европы, свобода эта распространялась только на способы времяпрепровождения, да и то в одних лишь светских кругах. Зато во всех жизненно важных вещах девушка целиком зависела от воли отца, жена - от воли супруга. Прециозные мечты о владычестве дамы над пылким воздыхателем были оборотной стороной реальной униженности женщины в браке. Салонные амазонки доходили до идей самых крайних, вроде отмены брачных уз как таковых или замены их временным, «пробным» супружеством; увидеть в них прообраз нынешних феминисток было бы не такой уж натяжкой. Мольер смеялся над прециозницами, когда они пытались идти наперекор установлениям природы и здравого смысла; он был их союзником, когда они защищали свои природой и здравым смыслом данные права.
Однако понятия «здравого смысла» и «природы» сами по себе, равно как и соотношение между ними, можно истолковывать по-разному, и как раз в умственной жизни французского XVII столетия расхождения по этому поводу составляют едва ли не главный предмет напряженных споров, на каком бы уровне мысли они ни велись - теологическом, философском, моральном, эстетическом. Либо здравый смысл, разум, которым от природы все люди наделены поровну, один способен вырабатывать ясные и отчетливые суждения о мире, постигать универсальные его законы и служить человеку надежным руководителем, как настаивал Декарт. Либо нам следует сообразовываться со свидетельствами чувственного опыта в его всякий раз неповторимой телесности и лишь приблизительной истинности, как полагал Гассенди. Либо человеческая природа после грехопадения Адама и Евы насквозь, беспросветно порочна, как утверждали янсенисты, и тогда все борения духа ничего не меняют в судьбе души, спасение ее возможно только посредством благодати, даруемой немногим избранным согласно предопределению, божественному промыслу, а не в награду за усилия разума и воли. Либо напротив, как возражали ортодоксальные богословы, первородный грех не полностью перечеркивает свободу человеческой воли, и действие благодати предполагает сознательное сотрудничество личности.
Подобные вопросы отнюдь не заперты наглухо в области отвлеченного умозрения. От их решения зависит множество других, принадлежащих уже непосредственно каждодневной морали и художественной практике. Заслуживают ли естественные наклонности и порывы доверительного уважения или опасливого подавления? Велико ли расстояние между верным пониманием и достойным поступком, между заслугой и воздаянием? Кому и на каких условиях открывается доступ к истине? Должно ли искусство сосредоточиться на умопостигаемых вечных сущностях или на пестроте преходящих вещественных подробностей? Вменяется ли художнику в главную задачу умелое и неукоснительное выполнение общеобязательных рабочих правил мастерства или озабоченность результатом своих трудов в восприятии читателя, слушателя, зрителя?
Мольер, конечно, не был ни философом, ни теоретиком искусства (хотя программных высказываний в его сочинениях немало), и искать у него последовательно продуманных ответов на мучительные недоумения века напрасно. Но он был ими озабочен не менее своих собратьев, работавших в «серьезных» жанрах - трагедии, моралистическом размышлении-максиме, эстетическом трактате, - только, разумеется, на особый лад. Любое учение занимало его прежде всего в своих социальных, то есть межчеловеческих и общественных, претворениях и последствиях. Не следуя строго, неуклонно ни одной философской доктрине, он многое из разных источников, из самого воздуха эпохи впитывал и переплавлял в собственное, мольеровское мирочувствие, никаким однозначным термином не определяемое. Позднейшие биографы, основываясь на противоречивых рассказах о личных связях и пристрастиях Мольера, рисуют его то учеником Гассенди, то приверженцем Декарта. Но судить о воззрениях по кругу знакомств вообще небезопасно, а парижские друзья Мольера вовсе не держались единой системы взглядов: среди них был и поэт Шапель, вольнодумец и дебошир, воспитанник Гассенди, и ревностный картезианец физик Рого, и преданно сочувствовавший янсенистам будущий «законодатель Парнаса», а в ту пору начинающий сатирик Буало, и аббат Ла Мот Ле Вайе, сын философа-скептика из числа последователей Монтеня. Единственное достоверное свидетельство об образе мыслей Мольера - это тексты его комедий, а в них - не только философические монологи, но сам ход действия, облик персонажей, строй языка, короче, сама плоть пьесы, отпечаток духа автора.
«Урок мужьям» (1661). Имя главного героя пьесы, Сганареля, уже являлось у Мольера. От комедии к комедии зовущийся этим именем персонаж будет, конечно, обретать различные черты, но какие-то его свойства остаются постоянными и придаются даже тем лицам, которые названы иначе - от Арнольфа из «Урока женам» до Аргана из «Мнимого больного». Их связует неумение видеть вещи в подлинном свете, прямо-таки маниакальная зачарованность своими заблуждениями, наивное самодовольство, подозрительность, и как следствие всего этого - отчужденность от окружающих, неприспособленность к нормальной жизни, замкнутость в призрачном внутреннем мирке. Сганарель из «Урока мужьям» яростно отстаивает свое право не быть «как все», не прислушиваться к чужому мнению о себе, не интересоваться происходящим за стенами его дома, не придерживаться стеснительных правил вежливости, не одеваться по неудобной моде и, главное, не признавать того, казалось бы, очевидного обстоятельства, что любезные его сердцу былые времена прошли и на дворе сегодняшний день. И точно так же он не желает замечать, что его морочит та, кого он собирается сделать своей женой.
Отношение к женщине - главная тема пьесы и всего «первого круга» мольеровских комедий - и есть тот оселок, на котором проверяется правота Сганарелева «консервативного нонконформизма». Старозаветное тиранство, ревнивая мнительность, запрет на знакомства, развлечения, наряды подвигают юную воспитанницу Сганареля на бунт, кончающийся ее победой и посрамлением упрямого безумца-деспота. Напротив, либерально-терпимая система Ариста, основанная на доверии к естественным чувствам и желаниям молодой девушки, на готовности подчиниться ее выбору, на признании «света», общества законным авторитетом в вопросах поведения и лучшей школой воспитания, приносит чудесные плоды, и его подопечная по доброй воле предпочитает заботы своего убеленного сединами покровителя домогательствам всех красавцев вертопрахов; здравый смысл (Ариста) оказывается, таким образом, в полном согласии с природными влечениями (Леоноры).
Строгая, «геометрическая» симметрия в построении «Урока мужьям»: два брата-опекуна - две сестры-воспитанницы, две системы взглядов - два противоположных результата; убежденность в том, что правильно избранная «метода» без осечки дает желаемый исход в любом деле, даже в любви; уважение к принятым в общежитии мнениям; вера в превосходство умеренного, срединного пути над крайностями - поистине, дух картезианского трезвого оптимизма витает над первой зрелой комедией Мольера. Уже полтора года спустя, в «Уроке женам», будут ощутимы иные, более тревожные нотки. Но между этими двумя пьесами произошло событие, очень важное в жизни Мольера и бросающее особый свет на оба «Урока».
Мольер женился. Арманда, новобрачная, - сестра его давней подруги Мадлены Бежар; таково ее официальное гражданское состояние. Но она моложе Мадлены более чем на двадцать лет; даты смерти их отца и рождения Арманды точно не известны; во всяком случае, Арманда родилась уже после отцовской кончины, а их с Мадленой матери к тому времени было под пятьдесят; Мадлена никогда не пользовалась безупречной репутацией. Все это дает повод злопыхателям (и даже, увы, кое-кому из друзей) утверждать, что Арманда не сестра, а дочь Мадлены. Дальше этого, однако, вначале не идет никто: предположение, что Мольер сам был отцом своей жены, - позднейший навет. Разбирательство «дела Арманды» продолжается и в наши дни, но безусловно неопровержимых, решающих доказательств в пользу какой-либо версии нет. Почти все юридические документы за то, что Арманда - сестра Мадлены; почти все свидетельства современников за то, что она Мадлене дочь.
Но, в сущности, любая разгадка мало что меняет в понимании мольеровской судьбы, тем более - его комедий. Важнее другое, то, что нам известно неоспоримо. Как бы то ни было, Мольер связал свою жизнь с женщиной вдвое его моложе, которую он знал ребенком, в воспитании которой, возможно, принимал участие. По единодушным отзывам и приятелей и недругов, Мольер был хрупкого здоровья и нрава задумчивого, меланхолического, склонного к ревности и раздражительности; Арманда же - легкомысленна, кокетлива и хотя не ослепительно красива, но по-своему очень привлекательна. Очевидно, что безоблачного супружеского согласия такое сочетание не сулило.
«Урока мужьям» и «Урока женам» до «Мещанина во дворянстве» и «Мнимого больного» - рассказ о семейных неурядицах самого Мольера, стон его раненого сердца. И впрямь нелегко представить себе, к примеру, что человек сорока лет дважды, за несколько месяцев до и через несколько месяцев после свадьбы с девятнадцатилетней девушкой, берется за перо, чтобы поведать, как пожилой опекун хотел жениться на молоденькой воспитаннице, - и никак эти истории с собственным опытом не соотносит. Но когда Мольер разыгрывает на подмостках повороты своей судьбы, вскрывает тайны своей души - это не романтическая исповедь неповторимой личности, а суждение об общей нашей человеческой природе, осмысление общей нашей человеческой участи.
«Урок женам» (1662) и продолжает, и развивает, и усложняет мысли «Урока мужьям» - тем прежде всего, что добавляет противоречивой психологической многомерности и социальной определенности характерам. Арнольф требует от Агнесы не только полной покорности, потому что удел женщин - повиноваться, но и искренней благодарности, потому что ее, крестьянку, берет в жены буржуа. Впрочем, сам он, сменив собственное имя на другое, звучащее более аристократично, хотел бы, чтобы его числили по «благородному званию», - вот и первый мольеровский мещанин во дворянстве. Но у Арнольфа тщеславие рождается не только социальными претензиями, а и беспокойной потребностью в самоутверждении, жаждой ежесекундно ощущать, что он мудрее, предусмотрительнее, тверже всех прочих, следовательно, всех достойнее уважения, послушания - и любви. Поначалу не отсутствие нежности к нему в сердце избранницы, а ее возможная супружеская неверность представляется Арнольфу самой страшной бедой: ведь в таком случае будет задета его честь. Честь в «Уроке женам» - не «слава», поиски которой заставляли героев Корнеля, ровесников Фронды, совершать ослепительные подвиги; это вечно гложущее, ненасытное самолюбие, что станет главной пружиной человеческих поступков и тайной основой человеческих чувств в беспощадных «Максимах» разочарованного недавнего фрондера герцога де Ларошфуко («Максимы» обдумывались приблизительно тогда же, когда создавался «Урок женам»).
Да и вся пьеса могла бы служить распространенной вариацией на тему, заданную афоризмом Ларошфуко: «Страсть нередко превращает хитроумнейшего из людей в простака, а простаков делает хитроумными». К чему вся осторожность и рассудительность Арнольфа, когда у него не остается сомнений, что он, как обыкновенный смертный, влюблен в молоденькую девочку? Куда деваются его властность и самообладание, когда он унижается до смешных и жалких молений? Громок ли голос разума, когда в чертах обманщицы Арнольф различает одну лишь прелесть? А в наивной простушке Агнесе вместе с любовным огнем просыпается изобретательность, и смелость, и логика, с которой не совладать многомудрому Арнольфу. И вправду, чем, кроме бессильного бешенства, может ответить Арнольф, сам охваченный безрассудной страстью, на незамысловатый Агнесин вопрос: «Легко ли сердцу в том, что мило, отказать?»
Конечно, ответы на такие вопросы давно придуманы, и Арнольфу они отлично известны. Их дают правила религиозной нравственности, которые он как будто бы и пытается внушить Агнесе. Но в устах Арнольфа христианская проповедь располагает лишь одним доводом - угрозой вечных мук - и обращается просто в плетку для души, еще одно орудие себялюбивого принуждения. О сути евангельских заветов самоотречения и смиренной кротости он и не вспоминает, и уж тем более не приходит ему в голову обратить их к самому себе. А духовное насилие оказывается перед натиском природного влечения столь же малодейственным средством, как и насилие физическое.
Природа в «Уроке женам» тем не менее не слепая необузданная стихия, пробуждающая разум лишь для того, чтобы и его заставить себе служить. Агнесино сердце указало именно на того, кого выбрал бы и самый трезвый расчет. Агнеса, правда, не совсем «чистый эксперимент»: по непростительной оплошности Арнольфа она обучена грамоте, ей известны какие-то правила обхождения. Но вот рядом с ней пара слуг, видимо, недавних крестьян, неотесанных, косноязычных, туповатых и трусливых, - так сказать, «сырая природа», и притом воспринимаемая без всякого руссоистского умиления. А между тем им дано в потемках Арнольфовых душевных хитросплетений, сквозь фарисейскую суровость его разглагольствований ясно разглядеть эгоистическую, собственническую изнанку его ревнивых метаний. Природа распределяет дар здравого смысла между всеми своими детьми независимо ни от сословия, ни от книжной выучки.
миг еще волен изменить ход событий и потому несет за них ответственность, что ложный путь, в конце которого его ждут позор и муки, Арнольф избрал сам. И все же - сентенция «сам виноват» обычно если и удовлетворяет чувство справедливости, то не вовсе заглушает чувство сострадания к жертве собственных ошибок и пороков. Сомнения в том, что все на этом свете однозначно разрешимо, что мы всегда властны справляться с нашими страстями и слабостями, уловимы в «Уроке женам»; но пока они пробегают лишь тенью, смутным предчувствием, всерьез не омрачая веселья и не колебля бодрой веры в силу добрых человеческих задатков.
Успехом «Урок женам» пользовался неслыханным. Но столь же громкой оказалась ссора вокруг пьесы, вспыхнувшая сразу же, чуть ли не в день премьеры. В нее так или иначе ввязались все те, кого Мольер успел задеть и обеспокоить за четыре с лишним года своего пребывания в столице, - а таких было множество. Непосредственными участниками этой перепалки стали актеры Бургундского отеля, со времен «Смешных жеманниц» раздосадованные мольеровскими уколами (и еще больше - шумной популярностью мольеровской труппы и ее солидными сборами),[1] не становятся менее любопытными - и потому, что свидетельствуют об укорененных в умах представлениях, и потому, что самому Мольеру они дали повод внятно высказать собственные установки.
«Урок женам», по мнению недоброжелателей, дурная комедия, поскольку прежде всего вообще не ясно, комедия ли это. В ней мало действия и много разговоров; ее главный герой, вместо того чтобы непрестанно забавлять зрителей, то выказывает способность к великодушным поступкам, то впадает в непритворное отчаяние, «так что непонятно, следует ли смеяться или плакать на представлении пьесы, которая словно бы предназначена вызывать жалость одновременно с весельем». Но вместе с тем она набита непристойными намеками, оскорбляющими стыдливость прекрасного пола и уместными лишь в ярмарочном балагане, изобилует неправдоподобными случайностями в развитии сюжета и неправдоподобными чертами в обрисовке характеров (ревнивец не стал бы приглашать друга отужинать в обществе его невесты; пылкий влюбленный не удовлетворился бы тем, что взял у предмета своей страсти ленточку). А правила драматического искусства, предписанные самим Аристотелем, если и соблюдаются, то неловко и нарочито - и тоже в ущерб правдоподобию. Да и чему, собственно, Мольер обязан своими успехами? Он просто выскочка, крадущий сюжеты из чужих сочинений, а характеры берущий из записок-наблюдений над нравами, стекающихся к нему со всех сторон. Он играет на испорченном вкусе нашего века, разучившегося ценить высокую трагедию, а комедию готового вернуть к площадному фарсу.
Вдобавок ко всему Мольера впервые открыто обвинили в неуважении к религии. Ведь как ни толковать Арнольфовы наставления Агнесе, но упоминания об адских кипящих котлах звучат со сцены уморительно, а «Правила супружества» явно передразнивают всякие назидательные духовные сочинения, в огромном количестве распространявшиеся в то время, - и даже, возможно, покушаются на библейские Десять заповедей.
молодежи. И первый пример тут подавал сам король. Он был тогда в разгаре страсти к юной, прелестной мадемуазель де Лавальер и вовсе не собирался стеснять себя законами семейственной добродетели, говоря словами Агнесы, «отказывать сердцу в том, что мило». «Молодой двор» - приближенные Людовика XIV, фрейлины его очаровательной невестки, Генриетты Английской, - предавался развлечениям и удовольствиям без особой оглядки на церковные строгости. Были у короля с церковью расхождения и более серьезные, политического порядка. Папский престол притязал не только на право неограниченного вмешательства в жизнь французской церкви, но и на авторитет в мирских, государственных делах. И то и другое было бы чувствительной помехой королевской власти, и Людовик XIV решительно такие притязания отвергал.
Но еще силен был и «старый двор» - окружение королевы-матери, Анны Австрийской, которая, как это часто бывает, прожив жизнь достаточно бурную и пеструю, на склоне лет пришла к самой истовой набожности. Поведение сына глубоко ее огорчало; ей не дано было знать, что и он в свой черед под старость оставит все прежние привычки и кончит дни в мрачном и чинном благонравии. А пока ничто такого исхода не предвещало, Анна Австрийская отчаянно - и тщетно - искала любых средств образумить Людовика. Союзников и единомышленников у нее было немало.
Тем не менее подозрения в вольнодумстве центром спора вокруг «Урока женам» не стали. Главная тяжесть обвинений против Мольера сосредоточивалась, помимо профессиональной стороны дела, на обстоятельствах его личной жизни, отношениях с Мадленой и Армандой (остроты, которыми присяжные скромники осыпали Мольера, своей непристойностью оставляли далеко позади двусмысленные шутки из «Урока женам»). В конце концов Монфлери, актер Бургундского отеля на роли героев, подал королю записку, в которой объявлял, что Мольер «жил с матерью (Мадленой) и женился на дочери (Арманде)». В ответ король согласился стать крестным отцом новорожденного первенца Мольера и Арманды; крестной матерью была Генриетта Английская. Жест эффектный, и после такого красноречивого свидетельства монаршего благоволения врагам Мольера не оставалось иного выхода, как замолчать, выжидая следующий удобный миг для нападения.
«Критика „Урока женам"» и «Версальский экспромт», - посвящены почти исключительно обсуждению вопросов ремесла. В сущности, спор между Мольером и его противниками идет о поэтике того утверждающегося стиля в искусстве, который потомки назовут классицизмом.
На уровне исходных мыслительных положений, осознанно ли принятых или бессознательно усвоенных, сходятся все: постигать бытие значит прощупывать за бесконечным разнообразием его преходящих явлений некую устойчивую, постоянно его определяющую основу. Сложные «задачи на миропонимание» предлагается решать алгебраическим путем, «с иксами», а не арифметическим, с конкретными числами. Картезианская посылка о наличии таких общеобязательных законов, о возможности и необходимости их вычленения так или иначе разделяется отцами классицизма и сказывается даже там, где упорядочивающую схему разглядеть как будто труднее всего. Например, в отношении к живой природе: внутри парковых оград она состоит из правильных овалов прудов, прямых линий аллей, пирамид деревьев. Или в подходе к языку: янсенисты для воспитанников созданных ими школ разрабатывают грамматику, не просто описывающую особенности разных языков, но пытающуюся установить их единые законы.[2]
роду людскому сущности, проявляющейся в четко распознаваемых типах-характерах. Правдоподобие, в отсутствии которого укоряли Мольера, и есть соответствие свойств и поступков персонажа той идее его «типа», что уже сложилась в головах зрителей. Возражая своим противникам, Мольер справедливость самого такого понятия как будто сомнению не подвергает. Для него тоже очевидна возможность расчленить человеческую толпу на вереницу знакомых «типов»: ревнивец, влюбленный, порядочный человек, кокетка, ханжа… Ведь «задача комедии», по его словам, - «рисовать человеческие недостатки вообще», «изображать нравы, не касаясь личностей».
Спор набирает остроту не столько в понимании связи обобщенного «типа» с отдельной «личностью», сколько в толковании самой сути каждого характера, возможного сочетания внутренне присущих ему качеств. Мольеровские психологические представления много гибче, сложнее, изощреннее, чем у его хулителей. На свой лад и Мольер в какой-то мере прикасается к тому парадоксу сопряжения бездн в человеческой душе, которому посвящены многие страницы паскалевских «Мыслей» (в год «Урока женам» еще не опубликованных, но уже написанных). У Мольера кроме одной определяющей, «заглавной», «опознавательной» черты человек может обладать и другими, побочными, разнящимися и даже противоположными. «Комическое лицо» оказывается способным «совершить поступок, приличествующий человеку порядочному». Влюбленный каким бы серьезным и разумным существом он ни был, в пылу страсти ведет себя смехотворно. Комический эффект пьесы («Урока женам», в частности) в том и состоит, что подчеркивается кажущаяся несогласованность между собой слов и действий, замыслов и результатов.
«всеобщности» своего искусства. Нравы и пороки, которыми оно занято, - это по преимуществу нравы и пороки своего века; общество, которому оно протягивает зеркало, - современное общество. Тут и ответ на удрученные сетования и язвительные выпады поклонников трагедии: противопоставление своего «исторического реализма» творчеству, основанному на вольном полете воображения, Мольер осмысляет как противоположность двух драматических жанров. Трагедии - выводить на сцену героев и богов, возвышенные чувства и подвиги, «пренебрегать истиной ради чудесного»; комедии - «изображать обыкновенных людей», людей своего времени, и так, чтобы портреты, написанные с натуры, выходили похожими. Само по себе разграничение жанров опять-таки вполне согласуется с жесткой эстетической разверсткой классицизма. Но того почтительного трепета, который по иерархии должно бы «низшему» жанру испытывать по отношению к «высшему», у Мольера вовсе не чувствуется. Напротив, ремесло комедиографа представляется ему более трудным - именно из-за более прочного прикрепления комедии к действительности, следовательно, возможности оценивать достоинства комедийного живописания, сличая его с оригиналом.
По Мольеру, в такой поверке искусства вещами, ему внеположными, и руководствоваться нужно не внутренними законами ремесла. Цель автора - нравиться публике; а если при этом нарушаются «правила», тем хуже для правил. Да и сами правила - всего лишь соображения здравого смысла, итог непосредственных наблюдений над творениями искусства, а не предшествующие творчеству заповеди; «и тот же самый здравый смысл, который делал эти наблюдения в древние времена, без труда делает их и теперь». При этом здравый смысл зиждется на свободном доверии к собственным ощущениям, собственному чувственному восприятию. Но вкусового произвола, разнобоя зрительских прихотей Мольер не опасается, поскольку здравый - «здоровый», «неизвращенный» - смысл и у него полагается всегда равным самому себе и присущим большинству природным даром. Поэтому большинство единодушно между собой и всегда право, «вся публика не может ошибаться». Носителями здравого смысла в зрительном зале оказываются для Мольера равно придворные и горожане, вельможи, занимающие кресла на самой сцене, и стоячий партер (хотя, конечно, и самоуверенного болвана можно встретить среди любой части публики). Этому сообществу здравомыслящих противостоит лишь одна каста - педанты, «знатоки», то есть те, кто претендует на обладание особенным, скрытым от непосвященных знанием, а потому и на исключительное право суждения. Мольер же, по роду занятий как будто сам к этой касте принадлежащий, предпочитает скорее быть слугой для короля и шутом для толпы, чем товарищем мудрствующих шарлатанов. Он, так сказать, профессионал-отступник; потому так и яростны нападки собратьев-литераторов на него, зато ему аплодируют и двор и город.
Гармония между автором и зрителями, основанная на согласном признании здравого смысла их общим наставником и судьей, дает драматургу уверенность в том, что его слова, обращенные к залу, будут поняты, его смех подхвачен, его уроки восприняты.[3] «Воспитание» зрителя потому и возможно, что пороки суть отклонения от здравого смысла, на которые надо указать, чтобы вразумить заблуждающегося или хотя бы других оберечь от следования дурному примеру. Театр - школа: с таким представлением о миссии драматического искусства Мольер приступает ко «второму кругу» своих комедий, составляющему как бы трилогию, в которой он будет впрямую размышлять о самом главном - о вере и безбожии, о нравственности и доброте, о законах человеческого общежития.
2
«Тартюф») - Безбожник («Дон Жуан») - Моралист («Мизантроп»). Едва ли Мольер сознательно задавался целью такой триптих создать, и возникали эти пьесы при обстоятельствах очень несхожих. Но несомненно, что взгляд Мольера в зрелые его годы обращен в глубь духовной жизни соотечественников, в самое ее средоточие, а потому неминуемо должен был встретиться с этими тремя лицами, воплощающими три вечные пути самоопределения человека в мире.
«Тартюф» (либо в изначальном своем, не дошедшем до нас варианте, либо просто в неоконченном виде) был впервые разыгран перед королем и двором в Версале в 1664 году. А почти за месяц до того парижское отделение Общества Святых Даров[4] на своем секретном заседании постановило всеми средствами препятствовать постановке никем еще не виденной, известной лишь по слухам комедии. Выполнить это решение хотя и на время, но удалось: «Тартюф» был под запретом почти пять лет. Французская церковь в своем приговоре «Тартюфу» была единодушна, как редко в каком деле. Иезуиты (хотя и считавшие комедию сатирой на янсенистов) и янсенисты (хотя и полагавшие, что мишенью мольеровских насмешек были иезуиты), архиепископ Парижский (грозивший своей пастве отлучением от церкви за любую попытку ознакомиться с «Тартюфом») и безвестный кюре (требовавший сжечь сочинителя-святотатца на костре), президент Парижского парламента, член Общества Святых Даров (запретивший представления пьесы) - все вносили в преследование «Тартюфа» посильную лепту. С такой коалицией и король в открытый бой долго вступать не смел, предпочитая оказывать Мольеру поддержку окольно.
Между тем, судя по подзаголовку «Тартюфа», речь в комедии идет о «Лицемере» (первая версия пьесы) или «Обманщике» (окончательный вариант). А в том, чтобы обличать с подмостков лицемерие и лживость, как будто нет ничего предосудительного с точки зрения самой строгой морали. Будь эта пьеса просто историей о том, как ловкий плут прикинулся другом хозяина дома и зарился на его состояние, сватался к его дочери и обольщал жену, едва ли ее постановка превратилась бы в дело государственной важности. Но фальшь и притворство сами по себе как раз в «Тартюфе» Мольера не слишком занимают. Суть же в том, чем именно привораживает Тартюф своего легковерного благодетеля, какую именно личину надевает. Тартюф не вообще лицемер, он пустосвят, ханжа; так, во всяком случае, определял его сам Мольер, обороняясь от обвинений в посягательстве на подлинную веру и подлинное благочестие.
Оправдание «любых грехов» «благими намерениями» - одно из положений казуистической морали, утверждавшейся иезуитами и в расхожем словоупотреблении по сей день с иезуитами связываемой. Но противопоставление «грехов», очевидных поступков - намерениям, тайным движениям души, основано на противопоставлении морали «земной», поверяемой человеческим разумом, - морали «небесной», верооткровенной. Такой разрыв, христианству исконно присущий, можно толковать по-разному, подчеркивать или сглаживать. Некоторые течения католицизма (в частности, иезуитский орден) в пору Контрреформации были тем снисходительней и терпимей к мирским слабостям, чем решительнее отстаивали превосходство верополагаемых доблестей над мирскими добродетелями. Нарушения умопостигаемых этических норм не столь уж страшны - это грех, конечно, но грех простительный, - если не наносят ущерба славе божией, тем более, если ради нее и совершены. Но в то время как заповеди светской морали (какой бы из ее кодексов ни принимать) и их исполнение поддаются суду людской мудрости, распознать, что послужит к возвеличению, а что - к умалению славы божией, гораздо труднее. Католическая церковь предлагала тут мирянам критерий простой и ясный: ко славе божией все то, что ко благу самой церкви и каждого ее служителя, причем под благом понималось не только укрепление духовного авторитета, но и накопление бренных богатств. Интересы любого человека в сутане и с тонзурой на голове[5]
Речи Тартюфа выдают его сходство с теми иезуитами-казуистами, что несколькими годами раньше были мишенью язвительных обличений Паскаля, защищавшего своих друзей-янсенистов в «Письмах к провинциалу». Но и янсенисты не то чтоб вовсе не имели оснований обижаться на Мольера. Их самих и тех, кто к ним был близок, подозревать в показной и корыстной набожности не приходилось, как не приходится сомневаться в искренней вере Оргона, прилежного Тартюфова ученика. И то, что Оргон усвоил из уроков Тартюфа, хотя и переложено на потешный язык недалекого буржуа, пытающегося рассуждать об отвлеченных материях, по сути, родственно янсенистскому ужасу перед греховностью человеческой природы и отвращению к посюстороннему тленному миру:
Не допуская возможности наведения мостов над бездной, разделяющей небо и землю, отойти от земной суеты, презреть все земные блага и радости, разорвать все земные, природные узы - янсенистам и «янсениствующим» такое жизненное решение было очень по душе. Оргон, новообращенный, делает лишь первые, но очень существенные шаги в эту сторону. Он изгоняет из дому сына и лишает его наследства, все свое состояние отписывает в дар Тартюфу (который, разумеется, даст «деньгам оборот весьма похвальный» - «на благо ближнему, во славу небесам»: почти дословно воспроизведенный девиз Общества Святых Даров), разрушает помолвку дочери с любимым, а главное - закрывает свое сердце для любого естественного порыва. Последствия Оргонова просветленья с точки зрения житейской, земной морали губительны для его семейства, и в этом смысле не так уж важно, притворяется ли Тартюф или он взаправду «не от мира сего». Будь Тартюф и впрямь богомольный бессребреник, могло бы произойти все то же самое.[6]
Дело в «Тартюфе» идет, очевидно, не столько о лицемерии, не столько даже об иезуитах или янсенистах, сколько о самой набожности, о самой религии. Точнее - об определенных способах религию исповедовать. Свой способ предлагает и Клеант, лицо, также введенное в пьесу позднее в качестве «человека истинно благочестивого». В действии Клеант прямо не участвует, вся его роль сводится к пространным монологам, и его легко можно было бы счесть просто резонерствующим манекеном, если бы не само содержание его речей, для Мольера отнюдь не случайное и не отписочное.
Их суть может быть лучше всего изложена словами анонимного «Письма о комедии „Обманщик"», появившегося две недели спустя после запрещения «Тартюфа» президентом Парижского парламента. «Письмо» было составлено если не при участии Мольера, то с его ведома и одобрения. В нем между прочим говорилось: «Несомненно, что религия - это просто разум, достигший совершенства, во всяком случае, в том, что относится до морали, которую она очищает и возвышает, и что она только рассеивает мрак первородного греха… одним словом, что религия - это всего лишь более совершенный разум». Традиции подобного отношения к религии восходят к ренессансному гуманизму, представленному философами такого склада, как Эразм Роттердамский или Томас Мор. Если католическая Контрреформация была готова к союзу с земной мудростью[7] разума, религия - гарантом социального порядка, возможностей человеческого общежития. Подобное вытеснение Вседержителя в своего рода почетную резервацию, замена, как выражался Паскаль, непостижно милосердного и непостижно грозного «Бога Авраама, Исаака и Иакова» - справедливым и благожелательным «Богом философов» так или иначе свойственны Монтеню и Гассенди, Декарту и Вольтеру независимо от того, на каком ряде земных ценностей - природно-чувственном ли, рациональном или социальном - они делали особый упор. И те требования, которые Клеант предъявляет истинной набожности: человечность, терпимость, ненавязчивость, в конечном счете, соответствие природному здравому смыслу, подтверждают место Мольера именно в этой преемственной цепи французских мыслителей.
в эти зрелые, вершинные его годы. Ее раздражает «мямля» Мариана, готовая на все: плакать, уйти в монастырь, наложить на себя руки, - только не сделать хоть что-нибудь, пальцем шевельнуть для себя же самой, для собственного счастья. Но, кроме Марианы, все прочие здравомыслящие персонажи «Тартюфа» - Эльмира, Валер, Дамис - сообразно своим понятиям и темпераменту как могут стараются привести дело к благополучному исходу. Счастливую развязку приносят, однако, не их усилия, а неожиданное вмешательство извне - самого августейшего монарха.
Мольеровские развязки были еще со дней спора об «Уроке женам» поводом для насмешек у его современников, для горестных вздохов у позднейших почитателей, настолько слабо они во многих случаях скреплены со всем ходом действия, так искусственно возникают в последнюю минуту какие-то волшебно благоприятные обстоятельства. Как раз для развязки «Тартюфа», впрочем, оправдания находятся, ее не явная, а внутренняя, содержательная обусловленность для пьесы достаточно очевидна. Королевская власть и на деле была той единственной силой, что могла противостоять церкви и святошам, а Людовик XIV в те годы был до какой-то степени склонен это противостояние поддерживать. Так что тут Мольер изобразил событие, которого, может быть, и не было в действительности, но которое вполне могло произойти.
Правдоподобие такой развязки подтверждается и на более глубинном уровне национального политического уклада. Предприимчивая самооборона персонажей «Тартюфа» замкнута кругом сугубо частных, семейных дел. В том же, что за рамки этих дел выходит, что принадлежит уже сфере гражданского поведения, они беспомощны и вялы. Они ждут от власти избавления или кары, но не помышляют о честном сотрудничестве с нею. Государственная власть, относиться ли к ней с благоговением или со страхом, воспринимается как нечто чуждое личности, отдельное от нее. Абсолютистское правление в принципе отучает подданных от повседневной ответственной гражданской самостоятельности, а потому в дальней перспективе обещает чередование периодов глухого затишья, когда верх берет отчасти искренняя преданность режиму и властелину, отчасти подличающее раболепие, - с яростными взрывами, когда исподволь копившееся недоверие перерастает в ненависть и гнев. Вся новейшая история Франции - тому свидетельство.
объяснить их простой данью традиционной условности или нехваткой времени при вечной спешке, стоит задуматься, нет ли у подобной «небрежности» причин более серьезных. Мольеровские герои бьются что есть мочи, чтобы переломить враждебные обстоятельства и самим решить свою судьбу. А решается она в конце концов помимо них, чьей-то иной волей. Можно увидеть здесь доказательство слабости, беззащитности человека перед высшими силами, бессмысленности всякого хлопотанья. Но ведь оборачивается все в ту именно сторону, куда и толкала ход событий людская суетня. Доверие к благожелательности Фортуны, разумеется, необходимо комедиографу любого века. Но в каждой точке истории это доверие обеспечивается особой ипостасью идеологического оптимизма. За счастливой неожиданностью, чудесно вознаграждающей усилия мольеровских героев, - не стоит ли подспудная мысль о необходимости соучастия человеческой воли в работе божественной благодати?
«Тартюф» - самое полное и совершенное у Мольера, а быть может, и во всей мировой комедии воплощение взгляда на театр как на «школу», где даются полезные и неопровержимые «уроки». Отчетливая ясность оценок (в «Тартюфе» целых два акта уходят на подготовку зрительского отношения к «обманщику», чтобы исключить всякую двусмыслицу в восприятии, когда он появляется на сцене самолично) нераздельна здесь с убеждением, что стоит указать пальцем на зло, и все встанет на место: заблуждающийся прозреет, негодяй будет наказан, честный вознагражден, а зритель последует доброму совету. Неколебимая вера во всемогущество разумного убеждения поддержана в «Тартюфе» самим его построением - строгой собранностью, которую дает соблюдение трех единств, мерной стройностью александрийского стиха. Не случайно именно в текстах, так или иначе связанных с «Тартюфом» (в предисловии к пьесе, в «Письме об „Обманщике"»), утверждается мысль о моралистическом назначении театра - в противоположность тем, кто полагал, что нравоучительная проповедь должна звучать единственно с церковной кафедры, а никак не с комедийных подмостков. Для Мольера театр не просто имеет равные с храмом права на такую проповедь, но обеспечивает ей большую действенность. И это не вопреки, а благодаря развлекательности, ибо смех куда доходчивее сурового наставления, он есть самое приятное времяпрепровождение для смеющихся и самое страшное испытание для осмеиваемых. Потому и «Тартюф», образец «высокой» комедии, не чурается фарсовых приемов - оплеух, залезанья под стол, объятий, раскрытых для чужой жены и чуть не достающихся ее мужу. Что Мольеру из его моралистической программы безусловно удалось «Тартюфом» сделать - это назвать зло по имени и тем помочь его опознавать. Ханжа для нас и по сей день - Тартюф. Стало ли от того тартюфов на свете меньше - как судить?
«Тартюфа», никак не свидетельствовала о торжестве разума и добра. Его сын Луи, крестник короля, умер, не прожив и года. С Армандой, упоенной своими первыми сценическими успехами, окруженной толпой поклонников, начались нелады. «Тартюф» под запретом, и конца борьбе за него пока не видно. Кроме морального урона отсутствие новой пьесы в репертуаре несло и материальные затруднения. Все, что сулило счастье и удачу, оборачивалось утратой и разочарованием.
Но в отличие от многих своих собратьев по перу, Мольер не мог себе позволить длительного «творческого кризиса». Труппу надо было кормить, интерес к ней у публики надо было постоянно поддерживать. Следующая пьеса Мольера, «Дон Жуан», появилась на афише несколько месяцев спустя после запрещения «Тартюфа», в феврале 1665 года. Она и призвана была поправить дела: сюжет ее у парижан был популярен, он давал повод для живописных декораций и всяких сценических эффектов, до которых тогдашние зрители были очень падки. Но возникшая по велению обстоятельств комедия стала одним из самых глубоких и безусловно самым загадочным сочинением Мольера.
«Дон Жуан» во многом противоположен «Тартюфу». Пьеса написана вольной прозой, место действия меняется от картины к картине, времени от первой сцены до развязки проходит явно больше, чем двадцать четыре часа (несмотря на реплики, заверяющие в обратном), события нанизываются в более или менее произвольном порядке, как разрозненные эпизоды. И главное - исчезает былая четкость суждений (а с ней вместе и разумный резонер, ее представляющий). Словно надломилась какая-то внутренняя ось, на которой держался весь комедийный миропорядок.
Дон Жуан, конечно, донжуан, соблазнитель. Но как «Тартюф» был пьесой не столько о лицемере, сколько о святоше, так «Дон Жуан» - пьеса не столько о соблазнителе, сколько о безбожнике; распутство Дон Жуана - лишь одно из последствий его безбожия. Религиозные смуты XVI-XVII столетий, Реформация и Контрреформация непосредственным своим результатом имели скорее подтверждение и упрочение роли христианства как формирующего начала европейской цивилизации. И все же именно тогда, в ходе яростных споров о том или ином понимании христианских догматов, с небывалой до тех пор отчетливостью и страстностью продумывались и все доводы за и против самой религии. Как бы искренно и категорически ни отвергались в большинстве случаев доводы против, атеистическое сознание предстает уже как действительное явление, а не только как умозрительно допускаемая возможность.
Но в XVII веке вера - и для сохранивших ее, и для утративших - есть тот фундамент, вернее, тот вделанный в небесную твердь крюк, на котором крепятся все человеческие установления, социальные и нравственные. Стоит этот крюк убрать, как мигом рассыпается вся система предъявляемых личности запретов и ограничений, требований и обязательств. Особенно если религиозная мораль основана на «интересе» - чаянии загробного вознаграждения и страхе загробного возмездия. А Дон Жуан не верит ни в бога (иначе говоря, в «небо» - общеупотребительный эвфемизм мольеровских времен), ни в дьявола, ни в ад, ни в бессмертие души, то есть именно в двигатель и весь исполнительный механизм сверхъестественного правосудия. Единственное, чему Дон Жуан готов повиноваться беспрекословно, - веления природы и свидетельства рассудка. Казалось бы, вот оно снова - искомое сочетание «природы» и «здравого смысла». Но в «Дон Жуане» нам является воочию жутковатая изнанка такого соединения: без общего всем надличного нравственного основания человеческая природа сводится к вороху сиюминутных вожделений отдельной человеческой особи, здравый смысл - к голым арифметическим очевидностям вроде «дважды два - четыре». Последствия подобного «естественного» своеволия - обман, насилие, убийство, попранная честь, разбитые семейства, сокрушенные сердца.
свои основания, уже скорее исторического, чем метафизического порядка. Как всегда у Мольера, легендарная, почти мифологическая фигура соблазнителя и святотатца рисуется с натуры, наделяется чертами людей своего века, современниками точно узнаваемыми. Дон Жуан в его мольеровской ипостаси - аристократ-«либертин» XVII столетия.
с заповедью «не убий», чувство сословной избранности и жажда личного первенствования свидетельствовали о гордыне, а не о смирении, куртуазное служение даме, пусть в самом платоническом варианте, не подчинялось правилам семейной добродетели. Пока этот кодекс определял поведение феодалов, обладавших подлинным, не символическим могуществом и почти ничем извне не ограниченной свободой, он держал их в узде самодисциплины, обеспечивая господствующему сословию необходимую крепость и здоровье духа. Едва ли не последние аристократы такого склада во Франции встречались в поколении Фронды. Негодующие упреки, с которыми Дон Луис обращается к своему беспутному сыну, и представляют в пьесе мораль этого поколения. Но со времен Людовика XIV носители громких имен, сохраняя все сословные привилегии, понемногу лишались настоящей власти, разорялись, влиять на судьбу государства могли уже только в качестве сановников, по должности, а не по самому праву рождения. И от старинного свода чести все чаще оставалось лишь чувство личной безнаказанности вкупе с осколками былых рыцарских достоинств - храбростью, перерождавшейся в бретерство, учтивостью, оборачивающейся высокомерно-презрительной или слащавой любезностью, изяществом, обмельчавшим до манерного щегольства. Среди этих людей «либертинаж» - вольнодумство, которым поэты-либертины первой половины века питали свои дерзкие сочинения и за которое они платились тюрьмой, а то и костром, вольнодумство, к которому ученые мудрецы из круга Гассенди и Ла Мота Ле Вайе приходили путем серьезных философских размышлений, - сказывался самыми крайними проявлениями бытового нигилизма. Мольер и до и после Дон Жуана чуть не в каждой пьесе выводит на сцену «маркиза» - юного вертопраха, разряженного, легкомысленного, расточительного, нагловатого, то более обаятельного, то более смешного. Дон Жуан, порождение переломного времени - ранних лет царствования Короля-Солнца, - соединяет незаурядную силу и значительность личности, свойственные дедам-фрондерам, с циничной распущенностью внуков-придворных. Поэтому он не смешон, а страшен: «…Когда знатный господин еще и дурной человек, то это ужасно…» Поэтому и пьеса о нем ближе к трагикомедии, чем собственно к комедии.
Судьба у этой пьесы была очень странная. Шла она с большим успехом, но после пятнадцатого представления исчезла с афиши. И хотя вокруг нее не было столь шумного скандала, как вокруг «Тартюфа», но «Тартюф» в конце концов вернулся на подмостки мольеровского театра, а «Дон Жуан» при жизни автора больше не ставился, издан не был. После смерти Мольера пьеса пошла снова, но в сильно искаженной обработке, сделанной братом Корнеля Томá. Подлинный же мольеровский «Дон Жуан» появился на французской сцене лишь в середине XIX века. Между тем кощунственные речи Дон Жуана у Мольера куда более уклончивы и куда менее пространны, чем у многих его предшественников, ставивших в Париже свои версии той же легенды; обрисован грешник краской достаточно черной; должное возмездие его неотвратимо постигает на глазах у зрителей. Одним словом, все обставлено вполне в благонамеренном духе. И тем не менее щепетильно благочестивые современники уловили запах серы, исходящий от этой комедии.[8] И причину они не замедлили установить: безбожного образа мыслей Дон Жуана, безнравственной логики его поведения в пьесе ничто не опровергает, никто им не противостоит.
И верно, нельзя же всерьез считать «положительным противовесом» Дон Жуану - Сганареля. Не только потому, что, ужасаясь порокам своего господина, он выказывает немало собственных: трусость, невежество, жадность (а кое в чем и подражает хозяину - скажем, в беспардонной вежливости, с какой они оба отделываются от буржуа-заимодавца). Но и потому прежде всего, что Сганарелева вера (и, следовательно, его понятия о морали) основана на «интересе», на - в прямом смысле - «страхе божием». Оттого-то так легко она вбирает в себя суеверие: «черного монаха» или «оборотня» боятся, по сути, так же, как «кипящих котлов», которыми Арнольф пугал Агнесу. А неразборчивый трепет перед сверхъестественным нетрудно побороть любезными Дон Жуану «арифметическими» доводами, и угроза наказания способна лишь раззадорить гордыню богоотступника. Однако непросвещенная вера Сганареля - и не та бесхитростная, но жаркая вера «простого человека», которую так заманчиво было бы противопоставить неверию образованного аристократа. Сганарель не крестьянин - «дитя природы»,[9] «апология религии» при всей ее пародийной нелепости воспроизводит традиционные доказательства бытия бога, выдвигаемые и ученой католической теологией: совершенство мироздания, чудесные способности человека предполагают Творца. Только в устах Сганареля изощренные хитросплетения схоластики звучат абсурдом, бессвязным, шутовским бредом, смешным и чуждым для здравого разума. В «Дон Жуане» религия как бы вынесена вовне личности. Непосредственному сердечному чувству она является как поощряющая или наказующая посторонняя сила, трезвому рассудку - как пустопорожнее мудрствование. И потому молния с небес, испепеляющая грешника под занавес, воспринимается как исполнение приговора, как восстановление порядка, как свидетельство господнего всемогущества, как театральный эффект, наконец, - но не как убедительный, по существу, ответ безбожнику и злодею. Заключительная реплика Сганареля словно ставит точку над «i», извлекая на поверхность подспудную тему пьесы - тему «интереса» - в ее самом грубом повороте: «Смерть Дон Жуана всем на руку… Не повезло только мне. Мое жалованье!..»
И все же нельзя сказать, что в этой самой мрачной, самой «шекспировской» пьесе Мольера Дон Жуан так и остается в своем праве и в своей правоте грациозно-могучего зверя. Пусть нет тут ни умозрительных, ни житейских опровержений его надменному своеволию; но есть неодолимый протест в живом сострадании к его жертвам, в нерассуждающем, безотчетном возмущении его поступками. И есть в комедии сцена, как бы вводящая иное измерение, напоминающая о возможности иной основы для нравственности. Это сцена с Нищим, которому Дон Жуан предлагает золотой за богохульство.[10] Поведение Нищего с точки зрения морали «интереса», земного или потустороннего, совершенно необъяснимо: он не получает от Неба никакого вещественного вознаграждения в этой жизни, но и воздаяния для себя в жизни загробной не вымаливает. Он в своей добродетельной вере тверд из любви к ней самой, по совести, а не по соображениям выгоды, пусть самой возвышенной. И он единственный, кого Дон Жуану не дано соблазнить, единственный, кому удается самого Дон Жуана заставить поступить «по-человечески». Но этот эпизод слишком краток, недостаточно весом, чтобы служить содержательной разгадкой всей пьесы. Зато намеченный в нем мотив «незаинтересованной морали» будет подхвачен и досконально разработан в «Мизантропе».
Последняя пьеса мольеровской трилогии, «Мизантроп» (1666), - самая «высокая» комедия Мольера, строже всех соблюдающая законы классицистического искусства, тщательнее прочих очищенная от фарсовых примесей. Здесь мало броских эффектов и мелких бытовых подробностей: все подчинено ходу размышления о вещах очень важных - из тех «вечных» вопросов, на которые нет окончательных, все раз и навсегда разрешающих ответов. Если «Тартюфа» «Мизантроп» продолжает и превосходит упорядоченностью строя, аскетической сосредоточенностью действия, то с «Дон Жуаном» его роднит неоднозначность, открытость мысли. Такое необычное соединение рождает в «Мизантропе» и особый вид комизма: это не здравое веселье «Тартюфа» и не жестокий юмор «Дон Жуана», это сдержанная и грустная улыбка, «смех в душе», по выражению современника.
«Влюбленный меланхолик». Слово «меланхолик» в XVII веке было гораздо прочнее, чем сейчас, привязано к своему медицинскому значению и отсылало к теории, согласно которой темперамент человека определяется одной из четырех жидкостей-«гуморов», преобладающей в его теле. Меланхоликом управляет «черная желчь», придавая ему раздражительность, угрюмость, наклонность к беспричинному унынию. Как литературный и театральный персонаж Меланхолик к середине XVII века имел уже долгую историю. Изобразить его влюбленным, да еще в легкомысленную кокетку, - счастливая мысль для комедиографа. Но Мольер в конце концов вынес в заглавие другое слово,[11]
Святоша Тартюф руководствовался девизом: «Цель (слава Неба) оправдывает средства (неблаговидные людские поступки)». Безбожник Дон Жуан, отринув небесную «цель», вообще перестал заботиться о нравственном обосновании земных средств-поступков. Моралист Альцест отстаивает добродетель самодостаточную и непреклонную, не имеющую иной опоры, кроме самой себя, не поощряемую никакими соображениями целесообразности, ни земной, ни небесной, не принимающую в расчет ни затруднительных обстоятельств, ни неблагоприятных последствий должного поступка. Коль скоро строгая мораль требует голой правды, то в общении с людьми Альцест пробует исключить всякое притворство, всякую лицемерную обходительность, всякое различие между высказыванием в глаза и за глаза - и пусть благорасположенные или хотя бы равнодушные превращаются во врагов. (Предписание безоговорочной искренности распространяется и на искусство, которое тоже ведь есть средство общения: поэтому в нем ценно только самое бесхитростное выражение чувств, а замысловатые игры ума годны лишь на то, чтобы их выбросить в корзину.) Если полагается бичевать пороки, то любимую женщину Альцест обличает во всех ее грехах и слабостях, не боясь ранить и отвратить ее сердце. Раз искательство само по себе дурно, то в судебной тяжбе он уповает единственно на правоту дела, не пытаясь склонить судей на свою сторону, а исход процесса ему не важен.
Но жизнь по таким законам не течет, человеческое общежитие не по таким правилам устроено, - тем более в среде, где действует этикет столь сложный и утонченный, как в парижско-версальском высшем свете при Людовике XIV. Та пленка условности, которую тщится прорвать Альцест, не только прикрывает истину, она склеивает людей в общество; повредить ее значит внести разлад, смятение, беспорядок. Различие обманчивой видимости и подлинной глубинной сути - постоянная забота ренессансной и барочной литературы. За полвека до Альцеста другой меланхолик, Гамлет, «не хотел того, что кажется», разрушая все ложные скрепы и как бы расцивилизовывая самого себя. Но в основании ненавистного Гамлету порядка лежали и вправду чудовищные, «библейские» преступления - братоубийство, кровосмесительство. А Альцест раздраженно кричит, что Филинту следует повеситься со стыда после того, как он расточал изъявления дружбы малознакомому человеку, Оронт же достоин петли за то, что написал плохой сонет. Такая несоразмерность вины и вызванного ею возмущения, конечно, смешна. Именно это комическое несоответствие, обыденная распространенность пороков, против которых мечет громы и молнии Альцест, - кокетство, злословие, тщеславие, двуличие, - делает их неуязвимыми: сражаться можно с исключительными случаями, в заурядную повседневность удары уходят, как в вату. (Столь же глухи будут слушатели и к негодующим речам Чацкого, и пользу его обличения принесут такую же - горе от ума для самого обличителя.)
что присущие им изъяны неискоренимы, поскольку заложены в самой человеческой природе. Филинт склонен взирать на окружающих с отрешенностью естествоиспытателя, который не приходит же в отчаянье, находя «мартышку - хитрою, а волка - кровожадным», и не пытается их переделать и образумить. Ведь бороться с природой - все равно, что грести против течения (как сказано у философа Ла Мота Ле Вайе,[12] эпикурейца и скептика, чья мудрость явно звучит в речах Филинта). А потому самое верное - жить в согласии с собратьями, хотя и не смешиваться с ними, без иллюзий, но и без гнева, подчиняться правилам игры, короче, смиряться с необходимостью и даже по возможности извлекать из нее удовольствие, а не биться лбом о стену, которой все равно не прошибешь.
«натуралистической» посылки выводы они делали различные: одни, склоняясь перед неодолимой природой, почитали ее благодетельной силой; другие испытывали к ней враждебный ужас и, не надеясь на победу, перемирия не подписывали. Ироническая невозмутимость янсенистам не давалась, к людям, чадам грешной природы, они либо обращались с яростными упреками, либо бежали от людского общества, отрясали его прах со своих ног, - но приспособиться к нему, жить в нем не могли. Поведение Альцеста очень близко к такому образу действий, как близок его нравственной требовательности янсенистский моральный ригоризм.
Но в «Мизантропе» противостояние добродетельной личности испорченному свету не так уж просто и однозначно. Дело не сводится к неравенству сил и практической бесполезности максималистского бунта. Первый, отброшенный впоследствии, вариант заглавия не зря приходил Мольеру в голову. Он напоминал о том, что власть природы распространяется не только на чужие души, а и в душе самого моралиста не свергнута. Она сказывается и обыкновенной слабостью: Альцесту нелегко выговорить свое мнение о негодных стихах автору в лицо, и, если бы не притворные восторги Филинта и само присутствие свидетеля, он попытался бы уклониться. Что важнее, Альцест бессилен перед собственной неразумной страстью, не может ни избавиться от нее, ни обратить на предмет более достойный. И сама его любовь ревнива, деспотична, стремится к удовлетворению своих горячечных притязаний куда больше, чем к счастью возлюбленной. Альцест хотел бы, чтобы Селимена была обделена судьбой, - тогда всеми благами она была бы обязана ему одному. Он готов простить Селимене ветреность - но не отказ бросить в двадцать лет весь мир для него одного. Взыскательное чувство моралиста Альцеста на поверку немногим отличается от тиранической мании ханжествующего Арнольфа. Необоримое душевное наваждение, разрушительные его последствия - это роднит Альцеста с героями и героинями Расина, блудного сына янсенистов, делает его как бы комической ипостасью янсенистского «праведника без благодати», ужасающегося своему греху, но бессильного его победить. От дружбы Альцест тоже ждет для себя исключительного предпочтения. Все, что его касается, представляется ему особо значительным: даже проигранный им процесс должен остаться в памяти потомков. Другие же люди могут и послужить просто средством для исполнения его желаний: Элианте Альцест со всей наивной откровенностью предлагает сделаться орудием его мщения. Проповедник незаинтересованной морали не всегда умеет поступать и чувствовать поистине бескорыстно; зато ощущение собственного нравственного превосходства его не покидает и как бы обосновывает его право на требования, предъявляемые к другим. А вот уступчивый Филинт и скромная Элианта оказываются способны на подлинное великодушие и самоотверженность в отношениях и с Альцестом и друг с другом.
«Мизантропе» до глубины души возмущало другого моралиста - Жан-Жака Руссо. По его мнению, Мольеру следовало изобразить ревнителя добродетели более цельным, более твердым, «вечно разгневанным против общественных пороков и всегда спокойным по отношению к несправедливостям, направленным против него лично»; наоборот, философ Филинт должен был бы оставаться равнодушным ко всему происходящему вокруг и выходить из себя, когда что-то задевало его самого. Вина Мольера состоит в том, что он, сам будучи человеком порядочным, искал успеха и одобрения у развращенного общества и ради этого сделал Мизантропа смешным, а мудрость свел к «чему-то среднему между пороком и добродетелью». Для Руссо - учителя романтиков изгой, одиночка (одинокий мечтатель, мудрец, бунтарь) всегда прав в своей распре с веком. Для Руссо - законодателя нравов искусство имеет целью чистое назидание, ради этой цели должно жертвовать и художественной игрой и жизненной достоверностью - иначе ему нет места в надлежащим образом организованном обществе.
Что мольеровская комедия раздражала Руссо, неудивительно. Когда для Альцеста искали прототип (как то проделывали со всеми мольеровскими героями), то чаще других называли самого Мольера. И потому, что он был меланхоликом по своему душевному складу, - с годами это все яснее обозначалось.[13] И потому, что мучительная страсть Альцеста, любящего Селимену «за грехи свои», воспринималась как параллель отношениям Мольера с Армандой. (Арманда и играла Селимену, а Мольер - Альцеста, «с горьким, саднящим смехом», по воспоминанию Буало.) Но главное не в том. Комедиограф, бросающий в лицо обществу злые истины, показывающий обществу нелицеприятный его портрет в надежде дать ему надлежащий урок, исправить, - не сходна ли эта роль с ролью мизантропа-моралиста? «Тартюф» был высшей точкой на пути Мольера-«учителя». Пересмотрев в «Дон Жуане» внешние основания морали, он в «Мизантропе» подвергает сомнению место самого моралиста среди людей, действенность его проповеди и его право на учительство. И шире того: «Мизантроп» - размышление о человеке среди себе подобных. Альцест - это «я», с моей болью, нежностью, бешенством, слабостью, упрямством, с моими упованиями и с моей правотой; можно ли отрешиться от самого себя? Но «я» помещено в общество, с его законами, обычаями, с его испорченностью, ложью, несправедливостью, с его мудростью и с его правотой; можно ли не принимать в расчет человеческого общества? Уважение и к правде мира, и к правде личности, умение смотреть и на себя со стороны, и на других изнутри и создает многозначность, многосмысленность «Мизантропа», вечную остроту и вечную нерешаемость заданных им задач.
«провинности» Мольера, два свойства, никогда его не покидавшие. Первое - потребность в мере, пристрастие к срединному пути. Умеренности во всем, даже в добродетели и познаниях, постоянно требуют мольеровские резонеры, ее выказывают все его разумные персонажи, а те, кто отклоняется от меры в чем бы то ни было, подвергаются в его комедиях насмешке и наказанию. Если такая нелюбовь к крайностям претила уже Руссо, что говорить о более поздних, постромантических временах, рисовавших себе художника не иначе как апостолом «безмерности в мире мер»? Но классицистическая «золотая середина» не предполагает самодовольной посредственности, это узенькая тропинка между безднами, и идти по ней нелегко. Классицистическая мера требует напряжения сил не меньшего, чем безмерные взлеты и падения, - просто иного: это неустанная работа самовоспитания, самообуздания, самопроверки. Благотворная необходимость меры - мысль, на которой сходились в «Великом веке», при всем различии предпосылок, и ортодоксальные богословы, и Декарт, и Гассенди. Чувство меры заложено так глубоко во французской душе, что едва ли может вытравиться из французской культуры, даже если переживается как досадный изъян. В этике XVII столетия из понятия меры родится представление о «порядочном человеке» - сдержанном, уравновешенном, любезном, терпимом, сознающем свои недостатки и не выпячивающем своих достоинств; это идеальное в общежитии существо остается притягательным образцом для французов и по сю пору. А в искусстве XVII века мера означает гармонию, точность, совершенство. Сегодня эти ценности имеют ограниченное хождение на художественном рынке; но кто поручится, что подспудная тоска по ним завтра о себе не заявит?
«Мизантропа», Руссо ошибался: пьеса у современников, за исключением таких тонких знатоков, как Буало, имела весьма скромный успех - она была слишком интеллектуальна и недостаточно зрелищна.) Действительно, комедия Мольера - не монолог наедине с собой, или с небесами, или с воображаемой родной душой. Это разговор с собеседниками, сидящими в зале, разговор, в котором участвует не только говорящий, но и слушающий. Мольеровский театр существует для зрителей, обращается ли он к ним с наставлением или укоризной, собирается ли он их развлекать, утешать или осмеивать. Случалось, зрители отвечали Мольеру непониманием, обидой, прямой враждой, - он этого не боялся. Но никогда не отворачивался от них с высокомерным презрением избранника духа к черни, к толпе. И в этом смысле придворный увеселитель Мольер, пожалуй, демократичнее пылкого друга народа Жан-Жака. Тут очень весомо свидетельство еще одного моралиста, бескомпромиссной последовательностью нравственной проповеди и народолюбия не уступавшего Руссо, - Толстого. Толстой, хотя и не делая для Мольера исключения в своем эстетическом иконоборчестве, все-таки называет его «едва ли не самым всенародным и потому прекрасным художником нового искусства». Судивший искусство сообразно тому, выполняет ли оно задачу «соединения всех людей», Толстой и должен был универсальность, общедоступность, всеоткрытость мольеровского театра чувствовать особенно остро и ставить особенно высоко.
3
Трилогия «Тартюф», «Дон Жуан» и «Мизантроп» - высшее достижение Мольера, но одновременно и граница перелома в его представлениях о человеке, искусстве, самом себе. Мольеровское восприятие мира и своей роли в нем после этого триптиха не то что в корне меняется, но меньше побуждает к бодрому и уверенному наставительству. Мольер теперь все больше занят зрелищной, чисто театральной стороной дела - при том, что умонастроения его становятся куда безотрадней; он не столько ищет новых тем, характеров, ситуаций, сколько разрабатывает другие повороты, непривычные интонации, неожиданные средства в передаче и воплощении уже найденного однажды. Этим и примечателен «третий круг» мольеровских комедий.
Едва ли не половину всего написанного Мольером составляют пьесы, предназначенные специально для придворных празднеств. В XVII веке пропасть между вкусами горожан и царедворцев была не столь уж велика, и мольеровской труппе не приходилось строго делить репертуар на «житейские» спектакли для парижской сцены и постановочно-развлекательные - для королевских замков. Пышный псевдоантичный «Амфитрион» был впервые сыгран в городском театре, бытовой «Жорж Данден» (включенный, правда, в балетное представление) - в Версале, а «Психея» с ее сложными декорациями и машинерией, хорами и интермедиями восхищала зрителей в мольеровском Пале-Рояле не меньше, чем приближенных Людовика XIV во дворце Тюильри. И Мольер с самого начала своей работы не лишал пьесы «для двора» права нести какие-то важные его мысли. «Принцесса Элиды», к примеру, по всем внешним признакам сочинение прециозное, по сути есть увещевание отбросить притворный «любовный идеализм» и повиноваться велениям природы. Но в придворных пьесах «третьего круга» сама пасторальная или мифологическая условность, само декоративное великолепие нередко лишь подчеркивают разочарованную горечь, которой отныне проникнуто мольеровское жизневидение. «Амфитрион» (1668), вне всякого сомнения, написан для обоснования королевского права преступать обязательные для прочих смертных моральные законы. Мольеристы спорят, мог ли Мольер к тому времени уже знать о начале очередного романа Людовика XIV - на сей раз с замужней женщиной, маркизой де Монтеспан. Как бы то ни было, привычки и наклонности любвеобильного монарха были Мольеру отлично известны, а умом он был наделен слишком здравым, чтобы читать нравоучения своему благосклонному повелителю, даже если бы и имел в том потребность. И тем не менее «Амфитрион» - одно из самых беспощадных мольеровских созданий. Это в «Принцессе Элиды» (1664) страсть, вспыхнувшая в сердце государя, изображалась с умиленным сочувствием и чуть ли не вменялась ему в долг. В «Амфитрионе» же все благовидные резоны, возвещаемые устами громовержца с его заоблачного трона, оказываются только «золоченьем пилюль». А на деле право венценосца, олимпийского или земного, - просто право сильного, поддерживаемое трусостью, раболепием и корыстолюбием слабых. Такая же беспощадность взгляда скажется и в нескольких написанных Мольером сценах «Психеи» (1671)[14] - в завистливой злобе сестер красавицы, в недостойной ревности самой богини Венеры.
«третьего круга». Мольер не стал писать меньше фарсовых пьес и реже прибегать к фарсовым приемам, напротив. Самый безудержно веселый и самый блистательный из его фарсов - «Лекарь поневоле» - появился почти одновременно с «Мизантропом», а потом и шел вместе с этой «большой» пьесой, чтобы поднимать сборы. Но в развитии мольеровского фарса «Лекарь поневоле» тоже означает срединную и переломную точку. От ранних незамысловатых «маленьких развлечений» здесь - грубоватая полновесность смеха, от последующих комедий - более сложная социальная и психологическая проработка характеров. Уже в «Жорже Дандене» (1668) дело обстоит по-другому. Сюжетными ходами он повторяет один из первых мольеровских (во всяком случае, приписываемых Мольеру) фарсов, «Ревность Барбулье», наглядно показывая, какое расстояние отделяет зрелого Мольера от его давних опытов. Данден не маска мужа-ревнивца, он богатый французский крестьянин, соображающий туго, но верно, к разным тонким чувствам не склонный и изящному обхождению не обученный, привыкший быть хозяином в своем дому, но на беду свою в помрачении рассудка поместивший денежки неудачно, купив на них молоденькую жену-дворяночку с тщеславной надеждой и самому через то выйти в люди. В отличие от прежних мольеровских безумцев, одержимых навязчивой идеей, Данден уже к началу пьесы прозрел, и весь последующий ход действия только подтверждает то, что и в момент поднятия занавеса было понятно. При таком безжалостно ясном свете становится очевидно, что в этой комедии нет правых, что Данден и его обманщица-жена друг для друга мучители и жертвы одновременно, что их нельзя извинить ни слепотой, ни страстью, что вороне-мужику не пристанут дворянские павлиньи перья, а общипанным павлинам-дворянчикам, породнившимся с мужичьим добром, не след бы распускать порядком пооблезшие хвосты. Потому и никакой счастливой развязки здесь быть не может. И все приметы фарса: недоразумения в темноте, падения, тумаки и поцелуи не по адресу - лишь усугубляют суровость этой не снисходящей до утешительных иллюзий картины и рождают странный смех - жесткий и желчный. Подобное непривычное, скрежещущее звучание фарса будет еще явственнее в «Скупом» (1668) и «Господине де Пурсоньяке» (1669).
Многие дорогие Мольеру мысли и излюбленные персонажи словно повернуты теперь другой, изнаночной стороной. Лучший способ для мужчины застраховать себя от измены - доверие к женщине; на эту тему в свое время Мольер написал «Урок мужьям». Но такое утверждение теряет изрядную долю убедительности, когда в «Жорже Дандене» его защищает ловкая бестия Клодина, помощница своей госпожи в ее любовных шалостях. Предпочтение старику перед безусыми юнцами, которое в «Уроке мужьям» Леонора оказывала по своей воле и которое в той ранней пьесе казалось естественным и благоразумным, в «Скупом» рисуется диким извращением, возможным лишь как издевательская выдумка наглой и льстивой сводни. Мольеровские слуги и служанки, от Маскариля из «Шалого» до Дорины из «Тартюфа», были подлинными детьми народа, представлявшими и воплощавшими народную трезвость ума, душевное здоровье, житейскую хватку, точное понятие о незавидности своего положения и уверенную гордость своими достоинствами. А если порой они и плутовали немного, то всегда в пределах дозволенного и для пользы дела - ведь совсем уж не замарав ручек, похоже, ничего и не добьешься на этом свете. Но теперь их все чаще заменяют корыстные наемники с темным прошлым, прожженные хладнокровные мошенники, такие, как Сбригани и Нерина в «Господине де Пурсоньяке», Фрозина в «Скупом».
Постоянный предмет нападок и осмеяния у Мольера - медицина и врачи. Тогдашнее состояние Гиппократовой науки в Европе, особенно во Франции, где медицинский факультет Сорбонны встречал в штыки всякую свежую догадку, и вправду давало немало поводов для насмешек. Еще недавно, в «Любви-целительнице» (1665), врачи были для Мольера сознательными и опасными обманщиками из семейства «фальшивомонетчиков». К этой касте, морочащей честных людей надутой галиматьей, принадлежат и философы в «Браке поневоле» (1664), и астрологи в «Блистательных любовниках» (1670), и педанты в «Критике „Урока женам"», и святоши в «Тартюфе». Вся эта шайка - общественное зло, изобличаемое Мольером-моралистом с верой в полезность и действенность его сатиры. А в «Лекаре поневоле» врачебная заумь - скорее, просто предлог для раскатистого хохота, она не страшна, а забавна. Зато в «Господине де Пурсоньяке» медицина - пугающая, грозная сила. Это власть, способная выносить непререкаемые и жестокие приговоры, приводить в исполнение мучительные экзекуции, объявлять больными и безумными тех, кто имел несчастье стать поперек дороги хозяевам, оплатившим услуги угодливых исцелителей.
Вместе с открытием других граней в уже освоенных темах и приемах Мольер занят и поиском новых языковых возможностей. Вопреки очевидной истине, утверждаемой учителем философии из «Мещанина во дворянстве»: «Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза», - в изящнейшей лирической комедии «Сицилиец, или Амур-живописец» (1667) многие прозаические строчки так ритмизованы, что напоминают белые стихи (в переводе, к сожалению, это уходит). В «Амфитрионе» и «Психее» строгий александрийский двенадцатисложник прихотливо чередуется с восьми- и шестисложными стихами. Во многих пьесах французская речь перемежается речью итальянской, испанской, латинской, правильной и ломаной, речью на смешанных, вообще не существующих языках, не говоря уже о диалектах французских провинций или о французской речи с иностранным акцентом. Словно бы все пласты одного только родного языка уже не могут насытить мольеровскую неукротимую словесную изобретательность.
«У Мольера скупой скуп и только» (в противоположность Шекспиру, у которого Шейлок наделен еще множеством различных свойств). Если бы Пушкин, высказывая это суждение, был озабочен подробным и пристальным разбором Гарпагонова характера, он непременно бы уточнил, что Гарпагон не только скуп, он еще и тщеславен, легковерен, вспыльчив, сластолюбив. Но Пушкину на сей раз важнее была общая мысль, и для ее подтверждения Гарпагон - удачнейший пример из всех возможных. В «Скупом» Мольер действительно ближе всего к изображению «вечного» типа, одержимого одной «вечной» страстью, олицетворяющего один «вечный» порок. Не зря сюжет этой пьесы вплоть до отдельных комических трюков восходит еще к Плавту. И сама скупость (во французском слове, служащем названием комедии, есть и оттенок алчности, любостяжания) более других страстей способна выжигать в душе все прочие чувства и побуждения или по меньшей мере подчинять их себе. О чем в комедии прямо и говорится: «Господин Гарпагон из всех человеческих существ существо самое бесчеловечное, это не простой смертный, а смертный грех». «Интерес» мольеровского скупца замкнут на самом интересе, никаких посторонних причин и целей не имеет: Гарпагон любит деньги для денег, не для тех наслаждений, не для той власти, которые они могут доставить, не для удовлетворения от работы, которой они добываются, даже не для горделивого сознания собственного всесилия, как то будет у пушкинского Скупого рыцаря. И в жертву этому идолу он готов принести детей, невесту, домочадцев, весь род людской. Гарпагон - человеконенавистник из чистого «интереса», как Альцест был мизантропом из чистой «незаинтересованности». Корыстолюбие, которое прежде являлось у Мольера в разнообразных, порой даже изощренных, преобразившихся почти до неузнаваемости обличьях, здесь сгущается в самое свое низменное и грубое, самое отчетливое и однозначное воплощение.
«Скупого» прохладно. Согласно объяснениям первых критиков, тогдашние зрители не привыкли к тому, чтобы большая, пятиактная комедия была написана прозой. Другие толкователи указывают, что «Скупой» как раз благодаря своему общечеловеческому и, следовательно, отвлеченному смыслу не мог забирать за живое так, как пьесы открыто злободневные, что сражаться с извечной скупостью безопаснее, чем с сидящими в зале сегодняшними прециозницами, лекарями, святошами, - зато и скучнее.
«Скупом»? На подступах к буржуазной эре, в кольберовской Франции, - не звучала ли она и пророческим предостережением для буржуа, прежде всего для французского буржуа, с его будущим пристрастием именно к «денежной», ростовщическо-банковской, а не промышленной деятельности? И не потому ли (хоть отчасти) безотчетно претил состоятельному парижскому горожанину «Скупой», что был слишком злым и провидчески точным, а не слишком благодушным и расплывчатым его портретом?
В тексте «Скупого» есть упоминание о том, что Гарпагона часто донимает кашель. Роль Гарпагона Мольер предназначал самому себе; и поскольку он никогда не упускал случая обыграть физические особенности и недостатки актера (хромоту, дородность, заразительный смех), это значит, что к тому времени приступы кашля уже могли его застигнуть в любую минуту. Так давала о себе знать застарелая болезнь легких (по всей вероятности, туберкулез). Жить Мольеру оставалось меньше пяти лет. Предчувствие смерти, наверное, не раз посещало его в эти годы. Но повседневное его существование шло по-прежнему, напряженно-хлопотно. На заботливые уговоры Буало оставить сцену и спокойно предаться сочинительству он не соглашался, очевидно не мысля своей жизни без театра. Неприятностей и забот было по горло: изнуряющие мелкие дрязги, нападки и интриги соперников, капризы публики. Под самый конец и король к Мольеру заметно охладел: перестал выплачивать пенсию, назначенную ему как «отменному комическому поэту» в разгар спора об «Уроке женам», а последнюю мольеровскую пьесу - «Мнимого больного», - хотя и написанную для двора, вообще не пожелал смотреть. Но выпадали и настоящие радости. «Тартюф» после столь долгих мытарств был в 1669 году разрешен к постановке и принес подлинный триумф. Вслед за годами размолвок и жизни врозь как будто вернулась близость с Армандой. Невзгоды и удачи мешались в чересполосице будней.
просто нами домысливаются задним числом. Но судьбы гениев и впрямь являют порой непостижимую законченность. Театр Мольера, подобно шекспировскому театру, как бы воспроизводит духовный путь, так или иначе проделываемый всяким человеком, большинством людей: от радостных надежд и кипения сил в юности - через горечь прозрений, сердечную боль, разлад с собой и с миром - к мудрой просветленности.
Веселостью уже не невинной, как прежде, а «знающей», утверждающей себя поверх зла и страдания, вопреки им, проникнуты «Плутни Скапена» (1671). Эта комедия - словно каталог лиц и положений, обычных для поздних мольеровских пьес: скаредные и вздорные старики, молодежь, беспомощная и не очень-то разборчивая в средствах борьбы с отцами-деспотами, неистощимый на выдумки слуга с подозрительной биографией, палочные удары, чудесные узнавания в конце; а тирады Скапена против судейских позволяют дополнить список шарлатанов-«фальшивомонетчиков». Скапен явно прошел огонь и воду, насчет рода людского не обольщается и в своих затеях, не колеблясь, делает ставку на слабости ближнего. Плутует он не в заботе о счастье хозяев, как Дорина, но и не из циничного расчета, как Сбригани, а ради наслаждения, которое извлекает из самой возможности покрутиться, поразмять мозги и спину. Не зря он так презирает тех, кто слишком раздумывает о последствиях и потому не смеет ни за что взяться. Дух чистой игры веет в этой отнюдь не «розовой» пьесе и наполняет ее радостью просто жить, двигаться, смеяться.
«Плутнях Скапена» мастерства поистине виртуозного. А от «высокой» комедии отходит очень далеко. Несколько лет спустя, уже после смерти Мольера, Буало в своем «Поэтическом искусстве» пенял ему за такую измену строгому вкусу. Но к комедии нравов и характеров Мольер тоже возвращается еще раз в эти последние годы, как бы желая и тут подвести какую-то черту. «Ученые женщины» (1672) - «большая» стихотворная пьеса; над ней Мольер работал долго, отрываясь для спешных заказов и снова за нее садясь в надежде явить на суд публики творение безупречно отшлифованное, совершенное. Нельзя сказать, что авторские ожидания сбылись до конца: поставить «Ученых женщин» выше «Тартюфа» или «Мизантропа» едва ли возможно. Но и часто раздающихся упреков в холодности, засушенности пьеса тоже вряд ли заслуживает, равно как и обвинений в отступничестве от былого взгляда на удел женщины, в переходе на сторону ретроградов вроде Сганареля из «Урока мужьям» или Арнольфа. Мольер, как и прежде, защищает женскую свободу, утверждая, что назначение женщины - любить по выбору сердца, быть преданной женой, матерью, рачительной хозяйкой дома. Велениям природы и здравого смысла противно все, что этому препятствует, будь то насилие извне или разрушительное душевное уродство, каким представляются Мольеру псевдовозвышенные бредни и мнимоученые притязания основательниц дамской Академии. Внутренний механизм подавления в себе естественных чувств, подмены действительных своих побуждений другими, покрасивше, описан в «Ученых женщинах» с тонкостью, оценить которую нынешний читатель и зритель, знакомый с открытиями новейшей глубинной психологии, способен скорее, чем мольеровская публика. Но не только подобными прозрениями связана с будущим эта пьеса Мольера: самим своим вниманием к домашним будням, к замкнутым четырьмя стенами повседневным бурям она расчищает дорогу бытовой, семейной драме. Столь разные перспективы - театрально-игровую и психологически-жизнеподобную - открывают «Плутни Скапена» и «Ученые женщины».
А две другие пьесы - «Мещанин во дворянстве» (1670) и «Мнимый больной» (1673), - словно составляя эпилог мольеровского театра, вбирают в себя все, что было им накоплено, и сплавляют социальную сатиру, уморительный фарс, исследование душевных тайн, пышную зрелищность, фантазию, верность приметам быта в некое новое единство, другую цельность, создавая и впечатление невиданное - упоительно-праздничное. Обе эти пьесы - комедии-балеты. Балеты Мольер писал чуть не с первых своих шагов в Париже. Для двора это издавна были любимые увеселения: принцы и герцогини и даже сам король не брезговали танцевать в балетах. Такие постановки бывали при дворе частью обширной развлекательной программы, длившейся иной раз несколько дней, составленной по более или менее связному сюжетному плану и включавшей в себя также театрализованные шествия, состязания, фейерверки. Мольеру иногда поручалось руководство всей программой; с ним вместе работали другие поэты, художники, архитекторы, музыканты; непременным участником таких работ был композитор Люлли, сотрудник, соперник и недоброжелатель Мольера. В ранних мольеровских пьесах, скажем, в «Докучных» (1661) или в «Браке поневоле», балетные интермедии соединены с ходом действия поверхностно, механически; да и «Жорж Данден» легко вынимается из своей балетной рамки, что сам Мольер и сделал, перенося спектакль на сцену Пале-Рояля. Но в «Мещанине во дворянстве» и «Мнимом больном» балетные и музыкальные номера, феерические ритуалы «посвящения», «театр в театре» - не декоративные вставки, а средства создать иной род комического зрелища. Прибегая к помощи музыки и танца, более условных искусств, Мольер дает им равные со словом права и немалую содержательную нагрузку. «Быт» теперь перетекает в «игру», сливается с ней, вымысел вмешивается в явь и преображает ее.
Только непривычный свет падает на эту уже знакомую картину. Нет прежней крепкой веры в возможность наставить заблуждающегося на путь истины. Но нет и недавней едкой горечи, беспощадного стирания позолоты со всех пилюль. Слуги, часто движущие действие у Мольера, и в последних его пьесах находят выход из тупика; и, как всегда, важен сам способ, которым они это делают. Ковьель из «Мещанина во дворянстве» и Туанета из «Мнимого больного» в близком родстве с Дориной (во всяком случае, более близком, чем со Сбригани). Однако в «Тартюфе» решением задачи было извлечь подлинную суть вещей из-под нагромождения лживых слов. В «Мещанине» и «Больном» «вещи» и «слова» противостоят не как правда и ложь, но как действительность и воображение, они не исключают друг друга, а кружатся в одном хороводе. Из господина Журдена не выбьешь его тщеславной дури, Аргана не отучишь от мнительности и страсти лечиться. Но если снизойти к их слабостям, то, произведя фантастическим, карнавальным обрядом одного в мамамуши, другого в доктора, можно рассеять снедающее их тревожное беспокойство, спасти окружающих от пагубных последствий их безумия, обратить в легкую шутку то, что грозило взорваться непоправимым несчастьем.
И тут приоткрывается сокровенный смысл всегдашней прикованности мольеровского взгляда к врачеванию. Тому, разумеется, достаточно есть и очевидных причин. Сами по себе телесные немощи - какая благодарная тема для комедии! Уже одно слово «клистир» вызывает смех. Другой пласт - мольеровская ненависть ко всякому глубокомысленному вздору, ко всяким поддельным «плодам просвещения».[15] Наконец, человеку, которого грызет тяжелый недуг, естественно проявлять особый интерес к болезням, лекарствам и докторам. Но в «Мнимом больном» явственнее проступает и другое, более глубокое, символическое значение мольеровской завороженности медициной. Здесь как бы материализуется мысль-образ, мелькнувший уже в «Любви-целительнице»: истинный врачеватель - искусство, «вносящее гармонию в расстроенные души». В театре не только учат уму-разуму, здесь унимают боль, ободряют, вливают силы жить.
«Мнимый больной» шел в Пале-Рояле четвертый раз. Мольер с утра чувствовал себя хуже обычного. Близкие упрашивали его отменить спектакль. Но он все-таки вышел на сцену, играл Аргана, потешая публику его мнимыми хворями, сражаясь со своей всамделишной смертью. Во время церемонии посвящения в доктора его охватили конвульсии; кое-кто из зрителей это заметил. Но представление было доведено до конца. Потом Мольера отнесли домой. Через час он умер от кровохарканья. Священники из ближайшей церкви отказались к нему идти; он не успел получить отпущения грехов и отречься от своего богомерзкого ремесла лицедея - такое требование для актеров еще было в силе. Архиепископ Парижский на этом основании запретил хоронить Мольера по обряду, в освященной земле. Арманда кинулась к королю; после прямого вмешательства Людовика, изъявившего настоятельное желание не доводить дело до скандала, архиепископ пошел на уступки. Все же погребали Мольера почти тайно - ночью, при свете факелов. Так закончилось его человеческое существование.
перепады в оценках и восприятии не были страшны. Он справлялся и с самым ледяным академизмом, и с самым неистовым новаторством, и с облыжной хулой, и с раболепной лестью. Так было не в одной Франции, его отечестве. Где бы ни появился Мольер хотя бы однажды как почетный и желанный гость, он оставался навсегда уже как свой, как близкий. Сегодня комедиограф французского «Великого века» повсюду на земле - у себя дома.
Всем своим подлинным творцам искусство дарит толику бессмертия. Бессмертие Мольера - особого рода, какое суждено лишь немногим, великим из великих. Тартюф и Журден, Гарпагон, Данден и Дон Жуан принадлежат не только культуре. Едва родившись, они вернулись туда, откуда пришли на подмостки, - в саму жизнь, и по сей день присутствуют в наших житейских мыслях, в нашем житейском языке. Нам в назидание и радость даны они Мольером - нашим вечным спутником, наставником, целителем.
Юлия Гинзбург,
Самарий Великовский
1
Спустя несколько лет после смерти Мольера, в 1680 г., специальным указом короля мольеровская труппа будет слита с труппой Бургундского отеля. Так родится «Комеди Франсэз» - «Дом Мольера».
2
Девятнадцатым, романтическим и позитивистским, веком подобный взгляд на действительность ниспровергался и осмеивался. Но в XX столетии (во Франции прежде всего, что, должно быть, не случайно) он явился вновь и воспринимался не как чудом оживший архаизм, а как самое дерзкое новаторство - у Сезанна и кубистов, прозревавших за причудливой неисчерпаемостью форм сущего ограниченный набор строгих геометрических фигур, в структурализме, занятом повсюду, в любой гуманитарной науке, системой отношений между предметами и поиском математической ее модели.
3
Молодой Буало, написавший по поводу «Урока женам» восторженные стансы Мольеру, в этой уверенности его поддержал: «На пользу твой урок любому…»
4
«ради славы Господней и блага ближнего». Дела эти были самые разнообразные: собственно филантропические - посещение узников в тюрьмах, помощь больным и нищим; внутрицерковные - борьба с ересями любого толка; и те, которыми занимается обычно «полиция нравов», - наблюдение за порядком у семейных очагов, слежка за беглецами со стези добродетели. Деятельность «Шайки святош», как называли Общество в просторечье, навлекала на нее неудовольствие не только светских властей, раздраженных помехами, которые им чинили ревнители патриархальной морали, но иной раз и официальной церкви, чьи функции «святоши» узурпировали. Зато Общество пользовалось поддержкой весьма влиятельных лиц и покровительством самой Анны Австрийской.
5
«смягчающих» уступок, которые Мольер сделал в ходе баталии за «Тартюфа». Но такая поправка мало что меняет: в то время клир был окружен густой толпой людей странного, промежуточного сословия. Не имея формально священнического сана, они, в частности, охотно брали на себя роль духовных руководителей. Тартюф в известной нам версии пьесы, скорее всего, и принадлежит к этой прослойке, вплотную соприкасавшейся с церковью.
6
Лет за десять до создания «Тартюфа» самая пылкая дружба связывала некоего герцога, пэра Франции, с ученым и философом, хотя и не носившим священнического сана, но обладавшим редким даром воздействия на умы. На какое-то время философ поселился в парижском доме герцога и его сестры. Под влиянием своего друга сам герцог, охваченный отвращением к тщете мирской жизни, отказался от губернаторской должности и блестящего брака, а сестра его собралась в монастырь. Негодованию родных этих молодых людей не было предела, а ненависть домочадцев к их духовному наставнику зашла так далеко, что однажды утром служанка ворвалась к нему в комнату с кинжалом в руках, и спасла его лишь счастливая случайность. Философа, о котором идет речь в этой истории (известной нам по рассказу его племянницы), заподозрить в лицемерии или корыстолюбии попросту немыслимо: его имя Блез Паскаль.
7
государственным статутом, неизбежно политизировалась; к концу смуты умеренная католическая партия, к которой был близок и Монтень, так и называла себя «политиками». Принцип воздаяния в загробном мире за добродетель на земле как бы переносился и на распределение посюсторонних благ: вождь гугенотов Генрих IV получает Париж в обмен на мессу. После его воцарения и издания Нантского эдикта суровая фанатическая проповедь была бы для католиков неуместным средством в борьбе за души верующих. Пастырские наставления святого Франциска Сальского (1567-1622), обратившего множество гугенотов в католичество, рисуют «благочестивую жизнь» не лишенной мирской приятности и зовут к ней не огненным глаголом укоризны, а цветами вкрадчивого красноречия. Кардинал де Берюль (1575-1629), виднейший деятель французской Контрреформации, утверждавший в стране новые монашеские ордена, был просвещенным покровителем наук и искусств. Такой духовный климат очень далек и от строгого бытового аскетизма протестантов и от мистических экстазов святой Терезы или Хуана де ла Крус в соседней Испании. Разумеется, все это не исключало жесткости церковных «административных» мер. Но дело во Франции обстояло так, словно бы католическая церковь, стремясь занять молитвами уста и четками руки, предоставляла больше свободы сердцам волноваться земными страстями, а умам - упражняться в светских размышлениях. Что в немалой степени способствовало превращению Франции, «старшей дочери церкви», государства, где на троне сидел «христианнейший король», а первыми министрами были кардиналы, в классическую страну европейского вольнодумства.
8
«Дон Жуана» появились «Замечания на комедию Мольера под названием „Каменный гость"» некоего Рошмона, до сих пор учеными с точностью не опознанного; возможно, он принадлежал к янсенистскому кругу. Рошмон прямо обвинял Мольера в атеизме; отныне даже драматурги и теоретики театра в большинстве своем Мольера не защищали, а, напротив, старались откреститься от столь опасно их компрометирующего коллеги. Только король снова сделал широкий жест: он попросил своего брата, Месье, отдать ему мольеровскую труппу, которая стала называться «Актеры Короля» и получать из казны жалованье.
9
«Натуральные» же крестьяне, впрочем, выписаны в «Дон Жуане» с живым сочувствием к их судьбе и положению, но тоже отнюдь не в пасторальных тонах: Пьеро груб и труслив, Шарлотта кокетлива и тщеславна, и оба они эгоистичны.
10
попал, так что этот случай мог ему быть известен. Но тот тулузский бедняк оказался менее стоек, чем мольеровский Нищий…
11
Мизантроп, то есть тот, кто ненавидит людей и избегает их, - лицо, литературе хорошо известное еще с античности, выведенное на сцену Шекспиром в «Тимоне Афинском».
12
заповедь философского бесстрастия, ледяной недоступности страданию кажется Мольеру насилием над природой, «жестоким попраньем чувств».
13
Самый ядовитый и сведущий в подробностях жизни Мольера пасквилянт-современник назовет свою сатирическую пьеску «Эломир-ипохондрик» (Эломир - анаграмма фамилии Мольер).
14
Соавторами Мольера были Корнель и прециозный литератор Филипп Кино.
15
«Мнимом больном» Мольер с удивительной интуитивной прозорливостью отделяет настоящую науку от косного шаманства, защищая теорию кровообращения - недавнее по тем временам открытие, утверждавшееся в яростных спорах.