
"Паломничество Чайльд Гарольда"
перевод С. Ильина, Павла Козлова, В. С. Лихачова, О. Н. Чюминой.
Алексея Н. Веселовского
| Автор: | Веселовский А. Н., год: 1818 |
| Категория: | Критическая статья |
| Связанные авторы: | Байрон Д. Г. (О ком идёт речь) |
Оригинал этого текста в старой орфографии. Ниже предоставлен автоматический перевод текста в новую орфографию. Оригинал можно посмотреть по ссылке: Чайльд Гарольд. Веселовский А.: Паломничество Чайльд-Гарольда (предисловие) (старая орфография)
ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬД.

"Паломничество Чайльд Гарольда"
перевод С. Ильина, Павла Козлова, В. С. Лихачова, О. Н. Чюминой.
Алексея Н. Веселовского
Источник: Байрон. Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. Т. 1, 1904.
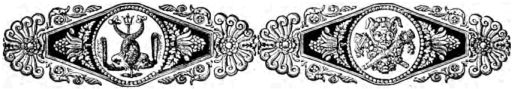
Паломничество Чайльд-Гарольда.
"Паломничество Чайльд-Гарольда". Не подчинилась она никаким требованиям теории, никаким правилам определенного эпического рода. Едва обусловлена она завязкой, - и обрывается неожиданно, не развязав узла фабулы; завлекая по временам повествованием или описанием стран и народов, она покидает постоянно его тон, чтоб дать простор душевным излияниям, размышлениям, признаниям - и поэма превращается тогда в сплошную лирическую исповедь. То сосредоточивается она как будто на изображении центрального характера, то растворяет его в личности самого поэта, становится все субъективнее, интимнее, и наконец, совсем отбрасывает условно-принятую маску придуманного героя. Но личный элемент сливается с общим, гложущая грусть переходит в мировую скорбь, автобиографическия черты уступают место всемирно-историческим картинам; минувшие века, угасшия цивилизации, целые тысячелетия встают из своего разрушения, красноречиво говоря дальнему потомству. На смену этому поэтико-историческому волшебству выступают в удивительно богатом сочетании вечные красоты природы, то величавой, могущественной, увенчанной ледяными альпийскими коронами, то нежной или знойной природы гор, моря; в её гармонии и величии дух отдыхает, а вслед за тем врывается живым потоком современность с её запросами и тревогами, и рассказ становится смелым памфлетом...
Но этот странный самородок, - не поэма, не лирический цикл, не натур-философская греза, не политическая манифестация, не элегия пессимизма и душевного разлада, но все это слитое в небывалое, нестройное, и властно захватывающее целое, - не был во всем своем разнообразии создан одновременно; последовательное появление его частей обнимает обширный и наиболее взволнованный период жизни поэта, - восемь лет с 1809 по 1817 г.; он был спутником Байрона, нравственно выростал и развивался вместе с ним, и это значение его, как автобиографической летописи, еще более возвышает его достоинства.
Необычно и самое происхождение "Паломничества". Его не подведешь под стать к произведениям с определенным, заранее намеченным планом; оно не было сознательно задумано, но сложилось свободно, непосредственно, из ряда отдельных лирических импровизаций, набросков, стихотворных листков дневника путешественника; объединенные, они стали жить вместе; потом вслед за ними пошли другия группы таких же импровизаций, уже сдержанные отныне некоторым подобием сюжета или плана, но до самого конца сохранившия дух вольницы, с скачками, отступлениями, эпизодами, возвратами к прерванной нити. Об источниках для подобного произведения почти и говорить нельзя. В ссылке самого Байрона в одном из предисловий к поэме на скучнейший и назидательный роман справедливо забытого теперь беллетриста 18-го века, Джона Мура, и в обещании дать в лице Гарольда что-то в роде "поэтизированного Zeluco" (героя этого романа) звучит несомненная ирония. Между развратным хищником и циником Зелюко и скорбником Гарольдом нет ничего общого. Сближение "Паломничества" (т. е. собственно лишь второй его главы, в её описаниях Греции) с книгой стихов искренняго эллинофила, бывшого английского консула на Ионических островах, Райта ("Horae Jonicae"). возможно в той мере, в какой могли быть сходны впечатления двух странников по краю, бывшее величие и современное падение которого они близко принимали к сердцу, - и затем оно уничтожается различием гениальности одного из них и симпатичной, благонамеренной посредственности другого. Если говорить об источниках, то лишь по отношению к некоторым описательным или историческим частностям четвертой, итальянской песни "Гарольда", введенным в поэму на основании присоветованных Байрону его другом Гобгоузом библиотечных и музейских справок, - но это, быть может, слабейшия места во всем произведении, которые бледнеют и уничтожаются от сопоставления с вдохновенными страницами, созданными вполне свободно.
только что закончен, и его сменили картины первобытного, сурово красивого горного албанского края, Байрон впервые остановился на мысли задержать навсегда пережитое и перечувствованное во время своих скитаний в виде стихотворных набросков, картин с натуры и отпечатков с собственных настроений. Сначала приходилось вспоминать и оживлять недавно минувшее, среди албанской жизни вызывать образы и краски романского мира; потом стихотворный рассказ стал все быстрее догонять факты путешествия, наконец почти сравнялся с ними по времени, так что последние листки греческого дневника написаны были тотчас после того, как Байрон покинул в первый раз Грецию, направляясь в Константинополь, - и то, что впоследствии названо было второю песнью "Чайльд-Гарольда", закончено было в первоначальном виде во время стоянки на малоазиатском берегу, в Смирне, 28 марта 1810 года. Для своих летучих набросков Байрон избрал прихотливую форму, снова возрождавшуюся в английском стихотворстве (благодаря удачному опыту Beattie Кэмпбелла) и возвращавшую читателя к вкусам и приемам елизаветинских времен, к девятистрочным "стансам" Спенсера. Обширная коллекция таких стансов, накопившаяся за время пути, не занимала особенно важного места в глазах Байрона среди привезенных им в Англию рукописей, - поэтического результата странствия. Только вследствие настояний друга поэта, Долласа, согласился он дать ему на пересмотр этот нестройный материал.
"Hints from Horace", - он "по разным поводам написал несколько небольших стихотворений, а также очень много строф в Спенсеровском вкусе, касающихся стран, которые он посетил". Ни слова о плане, соединяющем эти строфы, о сколько нибудь законченном произведении, составившемся из них, о герое, чьи деяния, мысли и чувства оне должны изображать. Необходимая связь, подобие плана и фиктивная личность героя внесены были, стало быть, лишь после того, как Доллас, пришедший в восхищение от импровизаций, которые, по мнению Байрона "не стоили особенного внимания", и поддержанный несколькими специалистами из литературного цеха, заставил поэта согласиться на обнародование. Тогда то началась сложная работа не только редактирования и спайки между собой частей будущей поэмы, но и обработки личного, героического элемента, в котором не было нужды, пока описания и излияния шли прямо от имени самого путешественника. Для впечатлений туриста мог быть удержан и впредь этот прием, - но там, где выступали в лирической исповеди слишком заветные, интимные черты семьи, среды, общественных отношений, личного прошлого, заботливый литературный трибунал не удовольствовался даже прозрачным псевдонимом Childe-Burun (древняя форма фамильного имени поэта), предложенным Байроном, и потребовал совсем нового наименования. Так вступила в поэму тень Гарольда. Это действительно тень, туманный образ, а не реальное лицо с самобытной, отдельной своей душевной историею, - и чем более подвигалась вперед поэма, тем заметнее становилась условность фигуры героя, а затем и ненужность её. Хотя и принято вводить Гарольда, как литературный тип, в круг Ренэ, Вертеров, Ортисов, его собратий по меланхолии и душевной надломленности, но внимательное сравнение его с ними не может не показать на их стороне законченную, самостоятельную душевную жизнь, на его же лишь подобие её, прерванное небрежно и незаметно самим автором. Вначале Байрон, как будто привыкая к навязанному ему раздвоению, сбирался в течении рассказа дорисовать и мотивировать намеченное им в первой песне; он называл Гарольда "лицом непривлекательным, выставленным со всеми его недостатками, которые автор легко мог бы сгладить, заставив его больше действовать, чем разсуждать"; он готов был даже поморализировать на его счет, заявляя, что это - "не образцовый герой, но что он, наоборот, показывает, как извращение ума и нравственности ведет к пресыщению, портит все радости жизни", но постепенно становился равнодушен к тщательной выписке фиктивного характера, в обширных и превосходных отступлениях беседовал с читателем уже от своего лица, вспоминал порою о Гарольде, возвращался к нему, но все реже и на короткое время; наконец в четвертой песне он вышел совсем на свободу, и только перед окончательным падением занавеса посвятил несколько грустных слов тому двойнику, с которым когда то выступал в путь, и который напоминал ему о поре "юности и свежести".
Пушкинское остроумное выражение о "Гарольдовом плаще", прикрывавшем далеко не байроническую натуру Онегина, может быть применено, под условием подстановки иных, высших понятий, к Байрону, как творцу "Паломничества". На нем, как повествователе о "чувствительном" (как говорили в 18 веке), т. е. гуманно отзывчивом странствии среди людей, народов, государств, природы, и как глубоком и искреннем лирике, действительно накинут был "Гарольдов плащ", и, если характер героя "Паломничества" не может блистать в ряду лучших его созданий, если плащ порою плохо драпирует и маска отстает от лица, то за ними выступают благородные, гениальные черты поэта. Не Гарольд, а сам он - истинный герой поэмы. Значение всего произведения переместилось, изменилось. Слабое в фикции, оно (в особенности к концу) становится велико и могущественно в воплощении действительности, личной и общей.
Но Гарольд был придуман, и необходимо было посвятить известную долю труда на биографическое введение, посвященное ему при первом появлении его на сцене. Так возникли строфы, описывающия его юность, жажду сильных ощущений и пресыщенность, его семейные отношения и товарищество, родовой замок и т. д., с сквозившими везде чертами из биографии поэта, но с прибавками и оговорками, которые пытались разстроить сходство. Гарольду вложено было в уста самостоятельно возникшее, как отдельное стихотворение, "Прощание" с отечеством (Ch. Harold's Good Night), - по признанию Байрона, внушенное ему в основной мысли старинной балладой лорда Максвелла. Предполагалось сначала снабдить Гарольда еще большей долею биографических подробностей, но соответствовавшия строфы вышли такими близкими к подлинным чертам отрочества и юности Байрона, что редакторы присоветовали уничтожить их (напр. две строфы перед нынешней восьмою). С неудовольствием и борьбой исполнял относительно сокращений советы Байрон, пытаясь понять напр., почему к уцелевшим в поэме сильным выходкам против английской политики в Испании или хищничества англичан относительно памятников греческой старины не могли присоединиться другия протестующия заявления на ту же тему, почему нужно было щадить Веллингтона, лорда Эльджина и др. В этой борьбе погибло в обеих первых песнях тринадцать строф, лишь в наше время возстановленных по рукописям. Взамен Байрон предоставил себе широкую свободу для прибавлений. Впечатления путешествия были еще так свежи, что легко было вызвать из них новые поэтическия картины Испании или Греции. Еще поразительнее вышли втеснившияся в поэму под влиянием сильного аффекта, совершенно в разрез с общим её ходом, глубоко печальные строфы, оплакивающия утрату таинственной "Тирзы" (личности, доселе неразгаданной, очевидно героини ранней, юношеской любовной связи Байрона, окруженной им непроницаемой загадочностью), - утрату, о которой лично он (не Гарольд) узнал по возвращении из странствий (строфы 95--98 второй песни, прибавленные во время печатания). В общем обе песни обогатились, против рукописи, двадцатью тремя новыми "стансами" (в седьмом издании, 1814 года, им предстояло еще разростись на одиннадцать строф, в том числе на посвящение "Ианте", красивому, изящному ребенку, дочке лэди Оксфорд), - и в этом виде, с именем Байрона на заглавном листе (несмотря на настойчивое его желание выпустить поэму безъименно), 10 марта 1812 года "Паломничество" вышло в свет и "в одно утро сделало Байрона знаменитым".
Значительное, почти столетнее отдаление от этой блестящей победы, возможность сравнить первые главы поэмы, вышедшия в свет (по определенно звучащей оговорке самого автора в предисловии) лишь "в виде опыта", с продолжением рассказа, поднимавшимся резко обозначенными переходами все выше в художественном и идейном отношении, - наконец влияние открытой для нас совокупности всего байроновского творчества с его великими красотами не могут не ослабить для новейших поколений того сильного действия, которое, по единодушным показаниям современников, произвели некогда первые главы, повторенные втечение одного только 1812 года в пяти вступительным строфам, и неожиданное насыщение слога древними оборотами, нуждающимися в комментариях (черта, конечно, ослабляемая переводами). Шалость эта не достигла цели, не удовлетворила поэта, он скоро отбросил игру в археологию, чтоб отдаться живой, бесконечно разнообразной, сверкающей образами, речи. Но другие приемы сближают его с иною, классическою стариной; быть может, от того, что и испанския картины набрасывались среди эллинской обстановки, а те, что изображали величие и падение Греции, еще теснее связаны были с культурными условиями древняго мира, - в рассказ вплетаются имена и образы мифологические, которым место было бы в писаниях профессионального классика. Под стать к этому - изображение Гарольда на палубе корабля с арфой в руках, произносящого свое прощание с родиной, тихо перебирая струны. Еще много неуверенности в своих слоговых силах, ведущей иногда к риторике или темным оборотам, которые приходится разгадывать, - монотонно звучат восклицания, открывающия иногда одну за другою несколько строф ("Hark!" или "Lo!" или "By Heaven!" и т. д.), словно помогая неопытному автору выйти из затруднения. В типических для Байрона, продержавшихся у него во весь первый период творчества, вставных песнях, борется искренность и непосредственность тона таких излияний, как "Прощание" или "К Инесе", с искусственностью албанской боевой песни (Tamburgi), которая, по словам Байрона, скомпанована им из отрывков разных албанских песен, - но не согрета суровым, боевым жаром, не свободна от разсудочности, и не в силах возбуждать или горячить отвагу и любовь к родине. В общих, основных, столь важных вообще в "Паломничестве", идеях еще заметна неустойчивость. Так уже заявленный им протест против губительных, ожесточающих и корыстных войн, сделавшия Байрона впоследствии (в Дон-Жуане) английское оружие. С другой стороны, свободолюбие поэта сводится не к поддержке и прославлению пользования политической свободой, но к воспеванию самого момента добывания народной независимости. Еще не установился даже общий тон повествования. Исполняя обещание, данное в предисловии, смешивать порою с серьезным смешное и забавное, поэт неожиданно, пользуясь случайным поводом, может отклониться в сторону совершенно чуждой жизни; напр. от картин веселящагося во всю ширь Кадикса вдруг перенестись в Лондон и набросать в остроумном очерке празднование воскресного дня буржуазною и рабочею толпой, устремляющеюся пешком, во всевозможных экипажах и на ладьях по Темзе за город. Мелькнули эти сцены (строфы 69--70), и автор, словно разуверившись в пригодности таких "отклонений" (variations), не вернется к ним более. Но он не хочет ни за что подчиняться стеснениям правильного плана, и, перестав искать развлекающих тем, дает волю скачкам своей мысли, фантазии, воспоминания. Среди испанских бытовых картин появляются вдруг строфы, обращенные к Парнассу, у подножия которого, любуясь им, поэт слагал свои стихотворные очерки Испании и испанцев. Под конец второй песни сверкнула картина Константинополя, с тем чтобы быстро исчезнуть и после новых импровизаций на эллинскую освободительную тему, дать волю личному горю поэта о несчастной Тирзе. Поддавшись волшебству общого впечатления, современники не заметили всех этих неровностей, недочетов, следов недостаточной опытности. До того велики и блестящи были затмившия их достоинства. Вместо красивой романтической небывальщины, приподнятых страстей и эффектного героизма, перед читателем выступала подлинная жизнь, душевная история неподдельно реальной личности, слитой из Гарольда и его двойника, слышались речи, заявления мыслей, находившия отзвук в настроении всего, что тосковало, рвалось на волю, ненавидело застой и гнет, в современном обществе; горячо и вдохновенно ставились великия задачи освобождения народов, возвещая в ту раннюю пору охвативший потом несколько десятилетий период национального брожения, борьбы и возстаний, послуживших на пользу итальянской, греческой, испанской, польской идее, - и меланхолический певец превращался тогда в пламенного Тиртея, вызывая испанцев или греков возстать против притеснителей, ликуя при виде взрывов народного героизма, подобного подвигу "сарагосских дев". В живом альтруизме таких порывов разрешались личная скорбь, душевное одиночество и презрение к людской низости, переданные с поразительной непосредственностью глубоко лирической исповеди, - но минутами они тонули в безграничном просторе мировой скорби, все сильнее развивавшейся у Байрона уже в первом путешествии, когда, попирая развалины давно минувшей исторической жизни, он видел всеобщее торжество разрушения и бренности. Послышались первые заявления неисходной мировой его тоски, которая так широко разовьется к концу "Паломничества", - и когда, вырываясь из связи с целым произведением, слышался внезапный стон усталой души, и изнывал ум, томимый "демоном Мысли" (стих. "К Инесе"), то был еще повод, чтоб привлечь к поэме и взволновать её необычайным содержанием.
избытком культуры, в края непочатые, все дальше в глубь жизни по природе, оно должно было привести странника на восток, в Египет, Персию, даже Индию (фантастический, не исполненный план), оно пестрело яркими этнографическими красками нравов, обычаев, типов, и на девственной албанской почве ввело читателя в совершенно неведомый мир. На бытовом фоне выростали полные жизни и движения картины, - в первой песне бой быков в Испании, во второй воинственный танец албанцев или празднества Рамазана, - а роскошная рамка южной природы дополняла впечатление. Казалось, такого красивого поэтического пэйзажа еще никогда не было создано, - но и за ним скрывалась уже глубокая идея целительной мощи природы, прибежища для одиноких, страдающих и возмущенных, идея, которая так широко разовьется в третьей, швейцарской песне "Чайльд-Гарольда".
которым он закончил первую главу, пообещав и в предисловии дать со временем продолжение, если первые песни будут встречены благосклонно. Тяжелое впечатление смерти любимого человека, навеки скрытого им в своих элегиях от праздного любопытства толпы, побудило его придать путевому описанию неожиданный конец, совершенно игнорирующий Гарольда, идущий прямо от автора. Живые картины экзотических стран, при помощи быстрого перехода, сменяются излиянием горя человека, которого судьба приучает видеть вокруг себя гибель и смерть всех, кто был ему дорог и близок, которого ждет одиночество или тяжкая необходимость снова войти в толпу презренных, ничтожных, порочных людей...
На этом настроении обрывается, как будто лишь на время, нить "Паломничества". Поэту казалось возможным, в случае успеха, снова овладеть ею и досказать свой восточный маршрут. Невольно раздробив содержание поэмы на лирику и этнографическое описание, он в своих обещаниях продолжения как будто имел в виду второй составной элемент {Он выдвигал и подкреплял его обстоятельными примечаниями бытового характера, приложением переводов с новогреческого, несколькими стихотворениями на мотивы из странствия по Испании и Греции, присоединенными в первом же издании к поэме.}. В письме к Долласу, осенью 1811 года, он говорит о проекте добавочной, третьей песни, в которой хотел бы изобразить Трою и Константинополь; по его словам, проект этот был бы наверно выполнен, еслиб автору удалось снова посетить эти края (возобновление путешествия было любимою мечтой его в первые годы по возвращении). Но успех превзошел все ожидания; немногия возражения и придирки критики, находившей Гарольда недостаточно рыцарственным и благородным, или сомневавшейся в возможности считать его характером положительным, образцовым, - эти возражения, юмористически оцененные им во втором предисловии, заглушены были хором всеобщих похвал и восторгов, - и продолжение "Чайльд-Гарольда" в его первоначальном замысле, как поэтического отражения первого байроновского странствия, никогда не появилось. Единственный отрывок, состоящий всего из двадцати семи стихов, сохранившийся случайно в семье Долласа, найденный в наше время и озаглавленный его издателем, Роден-Ноэлем, - "Афонский монах", повидимому, принадлежит к составу ненаписанной третьей, ориентальной песни "Гарольда", напоминая о своей связи с нею сопоставлением созерцательной тишины безчисленных афонских монастырей, обставленной чудною природой, с умершей навеки Троей, смотрящей на Афон с азиатского берега.
"Чайльд-Гарольда" прошло четыре года. Миновал лихорадочно-пережитый период светских, личных и литературных триумфов Байрона, когда в возбуждающей атмосфере неумеренных ожиданий и нервных восхищений необычайно быстро возникали одна за другой "восточные поэмы"; умножились разочарования, раздражения, углубился житейский опыт; отовсюду наползла и окрепла вражда, зависть, нетерпимость, не прощающая независимости, душевной силе, гениальности; настала, мучительно выстрадана была и оборвалась резким, оскорбительным диссонансом семейная драма Байрона, жадно подхваченная светским злословием и фарисейским целомудрием, превращенная в общественное бедствие, наказанная всеобщим остракизмом. Гонимая, всеми порицаемая, отвергнутая родною средой, но властная, ни за что на свете не способная подчиниться, выросшая благодаря закалу борьбы до титанизма, личность в состязании своем с целым строем жизни, дойдя до разрыва, устремилась вдаль, на волю, чтоб не иметь более ничего общого с враждебным ей народом. 25 апреля 1816 года Байрон покинул Англию. Началось второе и последнее его путешествие, из которого ему суждено было вернуться только мертвым. Первые же сильные впечатления в новых для него краях побудили его, по прежней привычке, взяться за перо для набросков лирического дневника; после посещения ватерлооских полей битвы написаны были в Брюсселе первые его листки, дальнейшие возникали по мере хода путешествия, на Рейне, в Швейцарии, для сдерживающей и объединяющей их связи показалось полезным вызвать снова тень Чайльд-Гарольда, - и таким образом возникла третья песнь (новой формации) "Паломничества".
Глубокой грустью проникнуты те открывающия рассказ строфы её, в которых томимый судьбою поэт оглядывается на годы юности, когда впервые стал его спутником Гарольд, когда сложилась фабула произведения, едва начатого и вскоре прерванного. Может ли он довериться своим силам, может ли он "петь, как прежде пелось"? Жизнь и время изменили его; с ним вместе изменился "душой, и видом, и возрастом" Гарольд. Выступая снова в поэме, они не в силах дать того соединения светлых картин природы и быта, горячности политической мысли, юношеского лиризма, с внезапными приступами тяжкого раздумья и горя о первых утратах, - которое составляло прелесть первых песен. Не велик промежуток между ними и их продолжением. - всего четыре года, но перед нами как будто другой человек, много поживший, с тяжелым бременем на душе, с обобщениями, выводами, целями, которые прежде ему были почти неведомы. Порою ему кажется, что он слишком долго "мыслил мрачно", до того, что "мозг его стал водоворотом пылкости и фантазии", ему вспоминается зловещий фон душевной истории всех героев его восточных поэм, этих выразителей болезненно-возбужденной психической его жизни в недавнем прошлом, - жалили и мучали воспоминания о только что вынесенном потрясении, - мысль его неслась навстречу новым ощущениям, способным дать успокоение, гармонию, отраду, и, более чем когда либо постигнув целительную силу природы, он шел к ней, чтоб слиться с нею и оздороветь душой. Но желанное успокоение на её лоне и новый строй мыслей, слагавшийся среди её величавых красот, вели не к примирению и уступчивости, но еще явственнее обозначали твердые, законченные формы обособившейся, сильной просветленной, вдохновляемой отныне еще более высокими целями. Переживавшийся Байроном переворот был так субъективен и так напряжен, что, несмотря на полюбившуюся ему сначала мысль призвать к себе на помощь Гарольда, он так безотчетно, невольно пробился с своими личными мыслями и чувствами сквозь условность и фикцию, что, уделив своему герою десяток другой строф для отдельной обрисовки его характера и настроений (при чем в лирической, вставной импровизации на Драхенфельзе, ему приписаны были слишком определенно-автобиографическия байроновския черты, - в данном случае искренняя преданность поэта к сводной его сестре, Августе), он отбрасывает до конца песни ненужный более вымысел, и с этих пор, занимая весь первый план, открыто и сполна обрисовывается перед читателем в один из важнейших моментов своей жизни. С самого начала "швейцарского эпизода" Байрону выпало на долю редкое счастье сближения и тесной дружбы с Шелли. Широкое философское развитие, глубина мысли, горячая вера в конечное торжество правды, лиризм освобождения соединялись в его друге с безграничным простором воображения, с пантеистическим культом природы. Неразлучный с Байроном, спутник его во многих странствиях по Швейцарии, увлекательный собеседник в неистощимых обсуждениях общих вопросов, он вывел его из тревог, гнева и разъедающей грусти в свой светлый мир; его борьбу с судьбою и людьми он осветил античным примером самоотверженного титанизма Прометея, который с отрочества Байрона уже подействовал на него, теперь же, в передаче и объяснениях эсхиловой трагедии устами Шелли, предстал перед ним в новом свете. Эти благия влияния возвращали поэта к альтруизму первых песен "Гарольда", по его же словам лишь скрытому потом, но никогда не изглаживавшемуся; они подняли и развили лучшия стороны его духа и облагородили его творчество. В этом настроении он мог создать "Манфреда", "Шильонского узника", своего "Прометея"; в такое редкое сочетание входит третья песнь "Паломничества", счастливо противополагаясь в этом двум своим предшественницам, явившимся одиночным почином случайно напавшого на путь свой гениального юноши. Теперь это зрелый художник, овладевший средствами своего искусства, способный по прежнему пренебречь иногда мелочами формальной стороны, строгой правильностью стиха, но достигающий несмотря на эти недочеты, наряду с пленительными и меланхолическими красотами, сильных и величественных эфектов. Он стал терпимее и восприимчивее относительно внешних влияний. Несомненно на него подействовал Шелли {Влияние это изучено в книге Gillardoii, "Shelley's Einwirkung auf Byron" Karlsruhe. 1898.}, но он же научил Байрона ценить такого живописца природы, как Вордсворт, над чьим реализмом когда-то он так зло подсмеялся в "Английских бардах"; почудились Байрону красоты и у другого из поэтов "озерной школы", Кольриджа, не менее враждебно относившагося к нему, и он свободно усвоил один мотив из оригинальной его поэмы "Christabel", столь увлекавшей впоследствии Пушкина. Но влияния и отголоски ни в чем не ослабили самостоятельной силы поэта, выразившейся так ярко в третьей песне "Гарольда", что вплоть до появления "Дон-Жуана" сам Байрон считал ее лучшим своим произведением. Снова, как прежде, ее составили два элемента, впечатления и описания пути, и лирическая исповедь в чувствах и помышлениях. Внешняя занимательность первого из них убавилась; теперь не было уже той пестроты красок неведомых, далеких краев, той разноплеменной толпы, которая служила привлекательным фоном картины. Маршрут гораздо короче, - от Брюсселя и Ватерлоо, вверх по Рейну, в Швейцарию, с быстрым переездом через немецкую её часть к Женевскому озеру; несколько картин его берегов, изображение бури на его водах и в окрестных горах, - путь кончен, вдали уже манит странника к себе Италия, и рассказ, дописанный к тому же на перепутье, в Ouchy под Лозанной (27 июня 1816 г.), снова обрывается. Не внесено описание сильно заинтересовавшого Байрона величавыми впечатлениями путешествия в бернский Оберланд, сжато занесенного им в свой дорожный дневник, - но ведь оно существенными своими чертами, картинами альпийской природы, вечных снегов, составило обстановку душевной драмы Манфреда. Да, невелика и не разнообразна была путевая часть новой песни "Паломничества", но отдельные её сцены, содействуя тому круговороту, который должен заменять субъективное общим и лирику пейзажем, с другой стороны дают в свою очередь богатую пищу для размышлений и заявления взглядов. Посещение ватерлооских полей (всего через год после битвы), превратившихся в тучные хлебные нивы, - "как будто кровавый дождь, оросив их, подготовил чудесную жатву" (невольно вспоминается древнерусское сравнение, в "Слове о полку Игореве", битвы с страшным посевом, политым кровью), - это посещение, подобно блужданию молодого Байрона по полям Марафонским, наводит его на думы о войне, о ничтожестве воинственной славы, о вековечной терпимости человечества к массовым истреблениям людей; оно приводит не только к подробной и живой картине боя, которой предпослана даже вступительная сценка разогнанного первыми выстрелами брюссельского бала, но и к всемирно-историческому суду над величием и героизмом завоевателей, к опыту оценки личности Наполеона (одному из многих у Байрона, произнесшого окончательный приговор над французским императором лишь в четвертой песне "Гарольда"), к резкой характеристике "безумия", увлекающого на арену истории честолюбие государственных людей, царей, религиозных вождей, творцов систем, войнолюбивых бардов, наконец к старой, но все более крепнущей в Байроне скорбной думе о тщете и бренности всего выдающагося и могучого. От бельгийского ландшафта мы отходим бесконечно далеко; среди племен и эпох выступает задумчивый образ самого поэта; это он ввел под влиянием только что пережитого в свое изложение поразительную притчу о разбитом зеркале, сохраняющем в безчисленных осколках своих черты отраженного в нем несчастного лица; это личное оправдание, хотя и приданное Наполеону, - что "для натур стремительных спокойствие - ад!"
но среди них именно и слышится вдруг вызванная лаской и дружелюбием встретивших Байрона у Драхенфельза с цветами девушек импровизация, обращенная к любимой сестре; разрушенная людскою злобой гармония выступает наглядно и болезненно, - и дневник туриста превращается в грустную страницу автобиографии. Паломничество к памятным местам творческой или общественной деятельности прежних времен, окаймившим Женевское озеро, напомнив о Вольтере, Жан-Жаке Руссо, Гиббоне, воскрешает образы этих "гигантских умов" (gigantic minds), coздает живые их образы, устанавливает связь между деятельностью, отныне предстоящей Байрону, и великими предшественниками, и тем вводит в круг идей, развитых в поэме, преемственную солидарность вождей мысли. Но этого мало, - воспоминание о Руссо связано с оценкой сильного и долгого влияния его на умы, отражения его идей на задачах великой французской революции; слышится строгий приговор над её ошибками и недосмотрами, способными привести к водворению реакции; гнев на господство мрака потрясает поэта; "этого нельзя вытерпеть, и этого не потерпят!" восклицает он, предсказывая затем близость нового, глубокого переворота. Повод, поданный эпизодом путешествия, привел здесь к одному из наиболее радикальных заявлений поэта.
одухотворенной жизни, возбуждает его к новому проявлению не только великого таланта поэтического пейзажиста, но и к небывалому у него подъему философского, почти религиозного преклонения перед природой и слияния с нею. В сфере живописи с натуры, конечно, превосходны картины звездной, тихой ночи на озере, или бешенства горной бури, или трогательной, идиллической тишины в Кларане и на берегах Рейна. Но оне бледнеют перед пафосом обоготворения природы. Теперь поэт чувствует мировую жизнь, свое единство с вселенской душой; он не допускает мысли об одиночном своем существовании, - ведь, он часть всего. "Разве горы, моря, небеса, не часть моей души, и я не часть их?" восклицает он. "Горы - его друзья", "там, где рокочет океан - его родной приют"; как древний халдей-звездочет, готов он молиться звездам, "поэтической мечте небес"; снежные великаны высятся перед ним, как "дворцы природы". В чудном уединении среди великого, сильного, вечного, он должен возродиться, "лучшия стороны духа, скрытые, но не подавленные, здесь снова оживут". Он вернется к людям с иными чувствами и мыслями; они и понять не могут, что "удаляться от людей не значит презирать, ненавидеть их". Уже сказался происшедший в нем перелом. Раскаты грома и бури невольно сравнил он, как бывало, с своими душевными бурями, но он не отдается этим терзаниям, он рвется теперь к живой деятельности, томится сознанием, что не сможет все высказать, все выразить, "душу, сердце, ум, страсти, то, к чему когда-либо стремился, чего он жаждет, что знает, чувствует, выносит". "Еслиб он все это мог заключить в одном слове, и это слово было бы молния, ". Так с поэзиею природы тесно связан отпечатлевшийся в третьей песне "Гарольда" переход Байрона к деятельной жизни во имя освобождающих человечество идеалов, превращение его из мятежного титана в одного из "пилигримов к вечности" (pilgrims o'er Eternity), которых он так величественно изобразил. Возвраты горя, в роде тех глубоко грустных обращений к разлученной с ним навсегда маленькой дочке Аде, которые начинают и заканчивают собою третью песнь (совершенно вразрез с общим ходом повествования), не в силах изменить в чем либо его решения начать новую жизнь.
Вскоре после того, как написаны были последния строки швейцарской песни "Гарольда", паломничество его автора возобновилось. Италия, чье радужное видение блеснуло в конце рассказа, маня к себе, предстала перед ним. Совершен был, полный новых красот, перевал через Альпы, раскинулась ломбардская долина, показались первые большие итальянские города, Милан, Верона, с памятниками изящной культуры, с блеском и возбужденностью национального темперамента жителей, прикрывавшими политическую зависимость и чужеземный гнет, с чудесами поэзии, музыки, женской красоты, - наконец, во всей своей сказочной оригинальности, Венеция, скоро завлекшая в свои сети давно мечтавшого о ней поэта, закружив его в водовороте своей безпечной и порочной жизнерадостности. Впечатлений снова было множество; одна уже смена величавой альпийской панорамы иною, нежащей природой, возвращавшей к испытанным в юности сильным ощущениям, не могла пройти не перечувствованною. Контраст былого величия с современным упадком и рабством Италии также освежал один из привычных байроновских мотивов, всегда возбудительно действовавших на поэта. Но муза его безмолвствовала; этой "Паломничества". Гарольд, казалось, снова предан был забвению. Судя по внешности, то же забвение постигло и великое, благородное решение, которое в светлый швейцарский период открывало перед поэтом будущность подвижника света и свободы. Венецианская нега, заманчивая, легко вспыхивавшая любовь парализовали, казалось, силы и волю. В последний раз перед замиранием разгорелись страстные инстинкты молодости. Духовное одиночество было большое. Возле не было ни одного сильного духом человека, который мог бы сколько нибудь помериться с живительным влиянием Шелли. Между Байроном и итальянскими писателями еще не завязалось близких отношений; о существовании обширной национальной партии действия он едва подозревал. В эпикурействе первых своих венецианских месяцев он топил тоску, снова овладевшую им, недовольство на свою неустойчивость, грусть о потерянной будто бы жизни. Старое надвинулось на него, переживаемый искус действовал тяжело и современем привел к суровому осуждению развратившейся Венеции, косвенной виновницы застоя в его развитии. Тяжелая болезнь, вынесенная благодаря плохой гигиене города, гнили его каналов и заразе, могла только усилить душевную подавленность и тревогу. Выздоровление потребовало перемены воздуха, путешествия. Типический у Байрона дух скитальчества взял верх, Венеция и любимая женщина были на время покинуты, перед странником предстали северо-восточная и средняя Италия во всем блеске многовековой культуры, Флоренция, Рим, - снова зароились благодатные впечатления, недавняя тоска и едкое раздумье встретились с мыслями и влечениями высшого порядка, вдохновение ожило, - вернувшись, Байрон сначала сам не верил возможности продолжать "Гарольда", даже наотрез отрицал существование каких бы то ни было набросков из римского путешествия, потом строфы посыпались целым потоком, и в двадцать шесть дней закончена была (на байроновской вилле La Mira, у реки Бренты) четвертая и последняя часть "Паломничества".
"Laus Deo!" (Хвала Богу!) в знак отрады, что конец настал, последней песне предстояла своеобразная судьба постепенно разростаться и после этой вожделенной минуты. Когда фантазия поэта вызывала, в рамке недавняго прошлого, новые образы и обогащала поэму свободно сложившимися красотами, это развитие и приращение было на пользу. Но, когда на байроновской вилле показался задержавшийся долее поэта в Риме Гобгоуз, прочел рукопись, видимо ища в ней возможно более полного стихотворного описания всего исторически достопримечательного, чем они только что увлекались, и с авторитетом преданнейшого друга и бывалого спутника, еще со времен первого байроновского путешествия, присоветовал ввести в поэму новые картины и дополнительные описания, для которых стал усердно собирать справки в библиотеках Венеции, это, выполненное уже в программе расширение четвертой песни, достигшей необъятных размеров, могло служить только ко вреду. Вообще с 130 строф она дошла до 185 и своим развитием подавила всех своих предшественниц, взобрав в себя необыкновенно разнообразный материал, литературный, историко-археологический, художественно-критический (в оценке памятников искусства); временами прямо чувствуешь, что самому поэту стоило больших усилий разработывать тэмы, к которым он не чувствует особой склонности. Так, посещая галереи Флоренции и Рима, он с трудом анализировал свои впечатления, и все виденное сливалось у него в общее представление красоты. С большою искренностью признается он (строфа 61) в том, что ценить и понимать величие природы для него сроднее и доступнее, чем формулировать оценки памятников искусства - и, несмотря на это, он не считает возможным воздержаться. Зато необходимость заставила его обращаться к книжным источникам, особенно к "Письмам" Дюпати об Италии (1788). То же испытывал он по отношению к тем из исторических достопамятностей, которые не увлекли, не потрясли его, но все же значились в программе. Но когда стансы вырывались из глубины сильного душевного движения, когда вид статуи умирающого гладиатора вызвал и поразительный по рельефности образ, и ряд глубоких размышлений, приравнявших собственную судьбу поэта к участи античного бойца, слагалось удивительное украшение поэмы.
В письмах к близким людям, характеризующих четвертую песнь "Паломничества", Байрон оттенял её различие от третьей тем, что она "гораздо менее метафизична", что он, отойдя от приемов Шелли и Вордсворта, заменил их новыми. Если значительную долю новизны видеть в обширном развитии описательной стороны, в которой с поэтическими, привычными в большей части "Чайльд-Гарольда", картинами спорят безстрастные стихотворные переложения фактов, то значение этого новшества сомнительно. Сравнительно уже важнее поэтическая летопись итальянского творчества, связанная с посещением пепелищ, могил или национальных памятников великих стихотворцев прошлых веков, - летопись, в которой сияют имена Данта, Петрарки, Боккачьо, Тасса, Ариоста, - символическое изображение того нового очарованного мира, в который вступил Байрон со времени поселения в Италии, и с которым (в особенности - в культе Данта) его связал самый искренний энтузиазм. Поднимаясь еще выше и переходя к сильному вдохновению, вызываемому посещением и созерцанием великой старины, читатель остановится в изумлении и сочувствии перед чудным видением старого Рима, воскресающого под пером поэта не в отдельных памятниках своих, но в общем духе, в образах, перед которыми бледнеют и те строфы о Венеции, её прошлом и настоящем (предмете, слишком хорошо известном Байрону), которые открывают собою главу. В последний раз в поэме, но с большей, чем когда либо силой, выступает мировой контраст величия и разрушения; с деспотизмом Рима связывается оценка новейшей наполеоновской тирании. Мы снова на широкой арене всемирной истории, мировых вопросов, мировой скорби. Но ведь это возврат к "метафизике", это прежняя, прекрасная, еще более умудренная жизненным опытом, поэтическая манера...
В ней, в развитии той преемственности идей, стремлений, дум, которая одна может связывать разрозненные части "Паломничества", - настоящее значение четвертой песни. Искреннее сочувствие к Италии, к "итальянской идее" не может не привлекать к ней, хотя в других произведениях Байрона оно разработано с еще большим могуществом. Но глубокий, потрясающий интерес составляют те новые, задушевные ноты, которые дают взглянуть во внутренний мир многоиспытанного странника, блуждающого по стогнам былого в раздумье, словно "развалина среди развалин", - которые показывают нам его то в минуту его призыва к Немезиде, когда он грозит ополчившимся против него людям самым тяжелым своим проклятием, - прощением, - то в его обращении к "матери-земле" и к небу, которых он зовет в свидетели, - то в повороте его настроения к надежде на поэтическое безсмертие, к сознанию, что он "жил не даром", что пока будут раздаваться звуки его родного языка, заветы поэта не перестанут разноситься по свету, - то в его горячей вере в торжество свободных идей, вере, поддержанной энтузиазмом Шелли, и нашедшей лучшее свое выражение в прекрасной метафоре "знамени свободы, разорванном, пострадавшем, но с бурною силой несущемся ветра".
другия странствия, разрешается тем, что первоначальный замысел, связанный с мотивом путешествия, уже ослабел и изветшал к данному времени, тогда как лирический элемент перерос его. Для этого же важнейшого элемента одинаково открыты были иные пути проявления. Действительно, пора было остановиться; после прелестного видения с горного гребня в Альбано, когда вдали показался старинный любимец Байрона, океан, удобно было прервать рассказ на сильно приподнятом настроении.
Праздные попытки таких недальновидных подражателей Байрона, как Ламартин или князь Вяземский, сильно агитировавший в том же смысле, подбивая Пушкина и Жуковского к работе - попытки продолжить, окончить "Паломничество Чайльд-Гарольда", выдать под своим именем пятую, последнюю часть поэмы, совершенно несостоятельны в самой сущности своей. "Паломничество" дорого и потомству во всей своей неправильности, незаконченности, вечных переходах и извилинах содержания, дорого поэтической мощью, великой душевной правдой, художественными красотами и неизменной, глубокой человечностью.