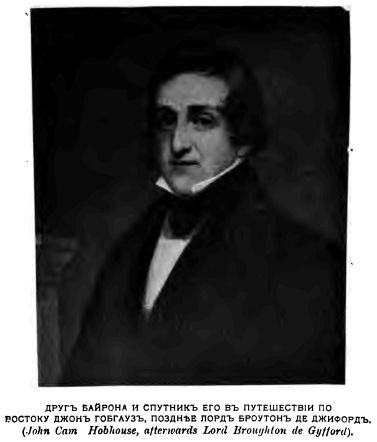
| Автор: | Байрон Д. Г., год: 1818 |
| Категория: | Поэма |
Оригинал этого текста в старой орфографии. Ниже предоставлен автоматический перевод текста в новую орфографию. Оригинал можно посмотреть по ссылке: Чайльд Гарольд. Примечания. Песнь вторая (старая орфография)
ПЕСНЬ II.
Закончена в Смирне 28 марта 1810.
Стр. 49. Строфа I.
. . .Он разрушен
Пожарами, войной
"Часть Акрополя была разрушена взрывом порохового склада во время осады Афин венецианцами". (Прим. Байрона).
Венецианцы, в 1687 г., поставили на самом высоком месте Ликаветта четыре мортиры и шесть пушек и начали бомбардировать Акрополь. Одна из бомб разрушила скульптурные украшения западного фасада Парфенона. "В 1667 году", говорит Гобгоуз, "все древности, от которых теперь в Акрополе не осталось и следа, находились еще в достаточно сохранившемся виде. В ту пору этот огромный храм мог еще быть назван целым. Ранее он был христианскою церковью, а затем - прекраснейшей в мире мечетью. В настоящее время от него осталось только 29 дорических колонн, из которых иные уже лишены карнизов, и часть левой стены. Колонны северного фасада, кроме угловых, все разрушены. Остающаяся часть развалин не может не вызывать даже у равнодушного зрителя чувства удивления и уважения; подобные же чувства проявляются при виде огромного количества мраморных обломков, разбросанных на месте храма. Эти обломки скоро будут единственными остатками храма Минервы".
Еще раньше венецианской осады, в 1656 г., часть Пропилеев была разрушена взрывом порохового склада от удара молнии. В 1684 г., когда Афинам грозил венецианский флот, турки снесли храм Победы и выстроили из этого материала бастион.
Стр. 49.
. . . но хуже брани
Пожаров и веков руки людей.
"Мы все можем чувствовать или представить себе сожаление при виде развалил городов, бывших некогда столицами царств; вызываемые подобным зрелищем размышления слишком общеизвестно и не нуждаются в повторении. Но ничтожество человека и суетность наилучших его добродетелей, каковы восторженная любовь к родине и мужество при её защите, никогда не обнаруживаются с такою очевидностью, как при воспоминании о том, чем были Афины и что представляют оне теперь. Эта арена споров между могущественными партиями, борьбы ораторов, возвышения и низложения тиранов, триумфа и казни полководцев, сделалась теперь местом мелких интриг и постоянных раздоров между спорящими агентами известной части британской знати и дворянства. "Шакалы, совы и змеи в развалинах Вавилона" наверное менее позорны, чем подобные обитатели. Для турок-завоевателей находится оправдание в их деспотизме, а греки были только жертвою военной неудачи, которая может постигнуть даже самых храбрых; но насколько низко упали сильные люди, если двое живописцев оспаривают друг у друга привилегию грабить Парфенон и торжествуют поочередно, смотря по содержанию следующих друг за другом султанских фирманов! Сулла мог только наказать Афины, Филипп - завоевать их, Ксеркс - предать огню; а жалким антиквариям и их презренным агентам суждено было сделать Афины заслуживающими такого же презрения, как они сами и их искания. Парфенон до его разрушения во время венецианской осады был храмом, церковью, мечетью {Парфенон был обращен в церковь в VI столетии Юстинианом и посвящен Премудрости Божией. Около 1160 г. церковь обращена была в мечеть. После осады 1087 г. турки построили в прежней ограде мечеть меньшого размера.}. В каждой из этих стадий он был предметом уважения; его поклонники менялись, но он не переставал быть местом поклонения; он трижды был посвящен божеству и его осквернение есть тройное святотатство. Но -
.... гордый человек,
Облекшись незначительною властью,
Так начинает вольничать пред Небом,
Шекспир, Мера за меру, II, 2)". (Прим. Байрона).
Стр. 50. Строфа III.
В рукописи находится следующее примечание Байрона к этой и пяти дальнейшим строфам, приготовленное для печати, но затем отброшенное - "из опасения", говорит поэт, "как бы оно не показалось скорее нападением на религию, чем её защитою".
"В нынешний святошеский век, когда пуританин и священник поменялись местами, и злополучному католику приходится нести на себе "грехи отцов" даже в поколениях, далеко выходящих за указанные Писанием пределы, мнения, высказанные в этих строфах, будут, конечно, встречены презрительным осуждением. Но следует иметь в виду, что эти мысли внушены грустным, а не насмешливым скептицизмом; тот, кто видел, как греческия и мусульманския суеверия борятся между собою за господство над прежними святилищами многобожия, тот, кто наблюдал собственных фарисеев, благодарящих Бога за то, что они не похожи на мытарей и грешников, и фарисеев испанских, которые ненавидят еретиков, пришедших к ним на помощь в нужде, вот окажется в довольно затруднительном положении и поневоле начнет думать, что так как правым может быть только один из них, то, значит, большинство неправо. Что касается нравственности и влияния религии на человечество, то по всем историческим свидетельствам оказывается, что влияние это выразилось не столько усилением любви к ближнему, сколько распространением сердечной христианской ненависти к сектантам и схизматикам. Турки и квакеры отличаются наибольшею терпимостью: если только "неверный" платит турку дань, - то он может молиться, как, когда и где угодно; мягкия правила и благочестивое поведение квакеров делают их жизнь лучшим комментарием к Нагорной Проповеди ".
Стр. 51. Строфа V.
На берегу пустынном он почил.
"Греки не всегда сожигали своих покойников; в частности старший Аякс был похоронен в неприкосновенном виде. Почти все вожди после своей смерти становились божествами, и тот из них находился в пренебрежении, у могилы которого не было ежегодных игр или празднеств, устраиваемых в его честь его соотечественниками. Такия торжества бывали в честь Ахилла, Бразида и др. и, наконец, даже в честь Антиноя, смерть которого была столь же славною, насколько его жизнь была недостойна героя". (Прим. Байрона).
Стр. 52. Строфа VIII. Первоначальная редакция её резче:
Угрюмый пастор! Не сердись, коль я
Не вижу жизни там, где ты желаешь;
Мне не смешна фантазия твоя;
Нет, ты скорее зависть мне внушаешь:
Так смело новый мир ты открываешь,
Блаженный остров в норе неземном;
Мечтай о том, чего ты сам не знаешь;
О саддукействе *) спор не поведем:
(Перевод Я. О. Морозова для наст. издания).
*) "Саддукеи не верили в Воскресенье". (Прим. Байрона).
Строфа IX.
По мнению Далласа, эта строфа написана была под впечатлением полученного Байроном известия о смерти его кембриджского друга Эддльстона. "Это был", говорит Байрон, "в течение четырех месяцев шестой из числа друзей и родных, утраченных мною с мая по конец августа". Однако же, в письме к Далласу от 14 октября 1811 г., посылая эту строфу, Байрон заметил: "Считаю уместным сказать, что здесь заключается намек на одно событие, случившееся после моего приезда сюда (в Ньюстэд), а не на смерть одного из моих друзей мужского пола". При другом письме к тому же Далласу, от 31 октября 1811, поэт приложил "несколько куплетов" (вероятно - стихотворение "К Тирзе"), помеченных 11-м октября, и прибавил, что "они касаются смерти одной особы, имя которой вам чуждо, а следовательно и не может быт интересно... Они относятся к тому же лицу, о котором я упомянул во II песне и в заключение моей поэмы". Таким образом, по указанию самого Байрона, строфа IX находится в связи с ХСV и ХСVИ, и все эти строфы имеют связь с группою стихотворений, посвященных "Тирзе". Более определенных сведений об этом предмете в литературе не имеется.
Стр. 52. Строфа X.
. . . Зевса храм
Когда-то тут стоял в сияньи славы
"Храм Юпитера Олимпийского, от которого осталось еще 10 колонн из цельного мрамора. Первоначально этих колонн было 150. Впрочем, некоторые предполагают, что оне принадлежали Пантеону. (Прим. Байрона).
Олпмпиэйон или храм Зевса Олимпийского, на юго-восточной стороне Акрополя, на высоте около 500 ярдов от подошвы утеса, на котором он стоял, был начат Лизистратом, а закончен семьсот лет спустя императором Адрианом. Это был один из трех или четырех величайших храмов древняго мира. Самый храм был украшен с боковых сторон двумя рядами колонн, по 20 в каждом, а спереди и сзади - тремя рядами по 8 колонн, так что общее число колонн составляло 104: в 1810 г. оставалось только 16 "высоких коринфских колонн".
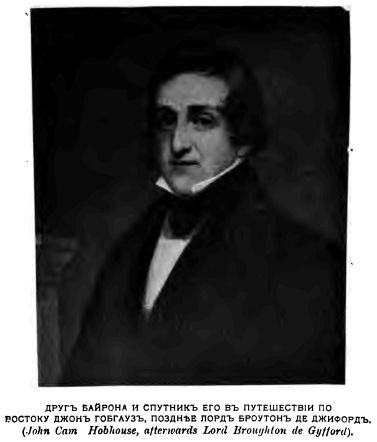
Стр. 52. Строфы XI--XIV направлены против шотландского лорда Эльджина (1701--1841), собирателя древностей увезшого парфенонские и другие мраморы в Англию. Об Эльджине см. в III т. "Проклятие Минервы", где нападки на Эльджина еще яростнее.
Увы, обломки храма с грустью скрытой,
Бушуя, волны в даль с собою унесли.
"Корабль потерпел крушение в Архипелаге". (Прим. Байрона).
Корабль "Ментор", нанятый Эльджином для доставки в Англию груза, состоявшого из двенадцати ящиков с древностями, разбился у острова Чериго, в 1803 году. Секретарь Эльджина, Гамильтон, с большими усилиями спас 4 ящика; остальные были отысканы только в 1805 году.
Стр. 53. Строфа XII.
Разрушил то, что годы сберегли,
Что вандалы и турки пощадили.
"В настоящую минуту (3 января 1810), кроме того, что уже доставлено в Лондон, в Пирее стоит идриотский корабль, на который грузятся всякия древности, поддающияся перевозке. Таким образом, как говорил при мне один молодой грек с несколькими другими своими соотечественниками (как ни низко они пали, - все-таки они еще могут это чувствовать), лорд Эльджин может хвалиться, что он разрушил Афины. Агентом этого опустошения служить один итальянский живописец с выдающимся дарованием, по имени Лузиери {Дон Баттиста Лузиери, более известный под именем "Дон Тита", родом из Неаполя, в 1700 г. сопровождал Гамильтона в Константинополь и оттуда переселился в Афины.}; подобно греческим ищейкам {Mirandum in modum (canes venaticos diceres) ita odorabantur omnia et pervestigabant, ut ubi quidque esset, aliqua ratione invenirent (Cicero in verrem act. II, lib. ИV. 13). У Верреса было две ищейки: скульптор восковых произведений Тлеполем и живописец Гиером.} Верреса в Сицилии, занимавшимся тою же профессиею, он оказался очень способным орудием грабежа. Между этим-то художником и французским консулом Фовелем желающим отнять у него древности для своего правительства, идет теперь жестокий спор из-за телеги, которою они пользовались для своих перевозок. Одно колесо этой телеги (я желал бы, чтобы они оба сломали себе на ней шею!) было заперто консулом, и Лузиери подал жалобу воеводе. Лорд Эльджин очень удачно выбрал себе в помощники синьора Лузиери. Прожив в Афинах целых десять лет, он ни разу не полюбопытствовал проехать хоть бы до Сунниума (теперь - мыс Колонна), пока ему не пришлось сопровождать нас во второй нашей экскурсии 1). Впрочем, его произведения все очень красивы, но почти все не закопчены. Пока он и его покровители довольствуются пробою медалей, оценкою камней, зарисовыванием колонн и сбиванием цены на геммы, - их мелкия нелепости настолько же безобидны, как охота на насекомых или на лисиц, первые речи новых членов парламента, катанье в кабриолете и другое тому подобное препровождение времени; но когда они увозят три или четыре корабля, нагруженных наиболее ценными и массивными останками древности, которых время и варварство еще не отняли у самого обиженного и самого главного из городов; когда они, в тщетных попытках вырыть, разрушают произведения искусства, вызывавшия удивление веков, - тогда я не могу найти ни резона, которым можно было бы оправдать, ни имени, которым следовало бы назвать виновных этого подлого опустошения. Одно из немаловажных преступлений, в которых обвинялся Веррес, состояло в том, что он грабил Сицилию таким же способом, которому теперь подражают в Афинах. Самое безстыдное нахальство едва ли может идти далее начертания на стенах Акрополя имени его грабителя; безпутное и ненужное обезображение целого ряда барельефов в одном из отделений храма заставит посетителей произносить это имя не иначе, как с омерзением.
1) Во всей Аттике, за исключением только Афин и Марафона, нет местности более интересной, чем мыс Колонна. Для антиквария и художника здесь есть 16 колонн, дающих неистощимый материал для изучения и рисования; для философа не может не представлять интереса предполагаемое место действия некоторых диалогов Платона; путешественник будет очарован видом "островов, венчающих Эгейскуио пучину"; а для англичанина Колонна имеет еще особый интерес, как место крушения Фоукнера {Вильям Фоукнер (1732--1769), подштурман одного левантинского торгового судна, потерпел крушение между Александрией и Венецией. Из всего экипажа спаслось только три человека. В 1762 г. он издал свою поэму: "Кораблекрушение", посвятив ее герцогу Иоркскому, при содействии которого он был принят на службу в английский флот.}. Паллада и Платон забываются при воспоминании о Фоукнере и Кэмбле:
Во мраке ночи здесь, близ Лонны берегов,
Храм Минервы виден с моря на большом разстоянии. Во время моих двух путешествий и одной специальной поездки на мыс Колонну, вид с суши был менее поразителен, чем с моря, от островов. Во вторую нашу сухопутную экскурсию мы едва спаслись от шайки майнотов, укрывающихся в пещерах под утесом. Впоследствии один из захваченных ими и выкупленных на свободу людей рассказывал, что они побоялись напасть на нас, увидя моих двух албанцев; они очень предусмотрительно, но совершенно неверно предположили, что нас охраняет целая гвардий этих арнаутов, и остались спокойно в своей засаде. Таким образом и спасена была наша компания, которая при своей незначительности, конечно, не могла-бы оказать им сколько-нибудь действительного сопротивления. Колонна привлекает не только пиратов, но также и живописцев;
Артист наемный там палитру выставляет
И одичалую природу украшает.
(См. Годжсона, Лэди Джен Грей и пр.).
Впрочем, там природа, с помощью искусства, сама себя украсила. Мне посчастливилось найти выдающагося живописца немца, и я надеюсь возобновить свое знакомство с этими и многими другими восточными пейзажами, когда мне будут доставлены его произведения. (Примечание Байрона к своему-же примечанию).
В данном случае я говорю безпристрастно: ведь я не коллекционер и не поклонник коллекций, а следовательно - и не соперник; но у меня с давних пор есть известное предрасположсние в пользу Греции, и я не думаю, чтобы честь Англии выигрывала от грабежа - в Индии ли, или в Аттике.
Другой благородный лорд (Эбердин) сделал лучше, потому что он сделал меньше; но некоторые, более или менее благородные, хотя все "почтенные люди", поступили наилучшим образом, потому что после целого ряда раскопок и перебранок, жалоб к воеводе, разных мин и контр-мин, они ровно ничего не сделали. У нас было такое чернилопролитие и винопролитие, что чуть не кончилось кровопролитием {"Во время нашего пребывания в этих местах, к сожалению, возгорелась более нежели междоусобная война из-за разысканий лорда Эльджина в Греции. В эти споры вмешалась вся французская колония и наиболее видные из греков. Снова ожили афинския партии". (Гобгоуз, Путешествие по Албании и пр.)}. Один "дерзкий человек" лорда Эльджина - для определения "дерзости" смотри Джонатана Уайльда {Этим словом на вежливом языке английского cant'а называется воровство.} - поссорился с другим по имени Гропиусом (очень хорошее имя для человека его профессии!) {Этот г. Гропиус употреблялся благородным лордом единственно для срисовывания древностей, в чем он большой мастер; к сожалению, я должен сказать, что он, злоупотребляя своим весьма почтенным именем {Байрон сближает имя Гропиуса с глаголом to grope - ощупывать, разыскивать. Шатобриан, в своем Путешествии на Восток, замечает, что Байрон "несправедливо осудил Гропиуса в своих язвительных заметках об Афинах". Карл-Вильгельм Гропиус, из Брауншвейга, род. в 1793 г., путешествовал по Италии и Греции, написал много пейзажей и архитектурных эскизов и в 1827 г. поселился в Берлине, где открыл диораму с выставкой картин. Умер в 1870 г. В 1812 г., когда Байрон писал свое примечание к 3-му изданию "Чайльд-Гарольда", Гропиус был еще очень молод и едва ли мог "много лет" быть агентом лорда Эльджина.}, пошел, на скромном разстоянии, по следам синьора Лузиери. Корабль с его трофеями был задержан и, кажется, конфискован, в Константинополе, в 1810 году. Я очень рад, что теперь имею возможность сказать, что "это не входило в его обязанности", что его пригласили работать только в качестве живописца и что его благородный патрон отрицает всякия с ним сношения, кроме артистических. Если допущенная в первом и втором изданиях этой поэмы ошибка причинила благородному лорду минутную досаду, то я об этом очень сожалею; г. Гропиус уже много лет именовался его агентом, и хотя я не могу видеть за собой большой вины, так как я впал в ошибку, весьма многими разделяемую, но радуюсь, что мне одному из первых удалось от нея отказаться. Поистине, мне настолько же приятно опровергнуть это известие, насколько грустно было подтверждать его. (Прим. Байрона при 3 издании "Чайльд-Гарольда").} и, отвечая устно на записку бедного пруссака, заикнулся об удовлетворении. Это произошло за столом у Гропиуса, который засмеялся, но не в состояний был докончить свой обед. Соперники еще не помирились, когда я уехал из Греции. Я имею право вспомнить об этой ссоре, потому что они хотели выбрать меня третейским судьею". (примеч. Байрона).
Строфа XII. ст. 1--3.
В подлиннике не "вандалы", а готы:
But most the modern Pict's ignoble boast
Спутник Байрона Гобгоуз сообщает:
"На оштукатуренной стене капеллы Пандроса, примыкающей к Эрехтейону, были глубоко вырезаны следующия слова:
Quod non feccrunt Gothi
Hoc fecerunt Scoti.
Шотландцы также находились среди волонтеров, которые вместе с ганноверскими наемниками участвовали в венецианском нашествии на Грецию в 1686 году.
Строфа XII.
"Не могу не воспользоваться позволением моего друга д-ра Кларка, имя которого не нуждается в рекомендации и авторитет которого сделает мое свидетельство в десять раз более веским: приведу из его весьма любезного письма ко мне следующий отрывок, могущий служить объяснением этих строк: "Когда последняя метопа взята была из Партепона и когда, снимая ее, рабочие лорда Эльджина разбили большую часть верхняго строения с одним из триглифов, тогда диздар, увидев разрушение здания, вынул изо рта трубку, залился слезами, и жалобным голосом сказал Лузиери: Τέλος! (конец!). Я сам при этом был". Этот диздар был отцом нынешняго диздара. (Прим. Байрона).
"Диздар - смотритель замка или форта. Это происшествие подробнее рассказано Кларком в его "Путешествиях по разным странам Европы, Азии и Африки" (1810--14, ч. II, стр. 483).
Стр. 53. Строфа XIV, ст. 1--3:
"По словам Зосимы, Минерва и Ахилл отогнали Алариха от Акрополя; другие же писатели говорят, что готский король вел себя здесь так же злонамеренно, как и шотландский лорд. Смотри Чэндлера". (Прим. Байрона).
Зосима - византийский историк. В действительности, вестготский король Аларих в 895 г. занял Афины без сопротивления и вывез из города все движимые сокровища, но не разрушал ни зданий, ни произведений искусства.
Стр. 54. Строфа XV.
Афиняне верили, или притворялись, что верят, будто мраморные статуи кричали от стыда и тоски, когда их выносили из древних святилищ.
Строфа XVIII.
Здесь сеть видна
Собственно навес (Canopy).
"Чтобы камни и осколки не падали во время боя на палубу".
Строфа XX.
Отставшую флотилью поджидая.
"Еще добавочное "бедствие человеческой жизни" - лежать в дрейфе при заходе солнца, в ожидании, пока самое заднее судно станет самым передним. Заметьте: хороший фрегат и хороший ветер, который, может быть, к утру переменится, но пока достаточен для десяти узлов!" (Прим. Байрона в рукописи).
Стр. 57. Строфа XXVII.
Одним из любимых удовольствий Байрона было, как он сам говорит в одном из своих дневников, - выкупавшись где-нибудь в укромном месте, сесть на высоком утесе над морем и по целым часам смотреть на небо и на волны. "В жизни, как и в своих песнях, он был истинным поэтом", говорит сэр Эджертон Бриджес. "Он мог спать, и - очень часто спал, завернувшись в свой грубый серый плащ, на жесткой палубной скамье, когда кругом со всех сторон шумел ветер и вздымались волны; он мог поддерживать свое существование коркой хлеба и кружкой воды"...
Можно принять за верное, что Байрон описывает только то, что сам видел. Однако ни в его собственных письмах с Востока, ни в записках Гобгоуза мы не находим упоминания о посещении им Афона. Эта гора "гигантской высоты" (6350 футов) в одиноком величии поднимается над морем в виде белого известкового конуса. Если смотреть с известного разстояния, то Афонский полуостров (южная часть которого достигает 2000 футов высоты) будет ниже горизонта, так что Афон кажется выходящим прямо из моря. Байрон, по всей вероятности, так его и видел.
Строфа XXIX.
Здесь острова Калипсо, теша взгляды
"Говорят, островом Калипсо была Гоза". (Прим. Байрона).
Страбон говорит, что Аполлодорь упрекал поэта Каллимаха за то, что тот оспаривал мнение, будто остров Гоудус (Гози) был Огигией, островом Калипсо, хотя, как ученый, и должен был бы это знать.
Строфа XXIX, ст. последний.
Она от двух утрат лила не мало слез.
"Мудрый Ментор, толкнув Телемака, сидевшого на краю утеса, сбросил его в море и сам бросился вместе с ним... Неутешная Калипсо возвратилась в свою пещеру и наполнила ее своими стенаниями". (Фенелон, "Телемак").
Стр. 58. Строфа XXX.
О, Флоренс!.
"Новая Калипсо Байрона, г-жа Спенсер Смит (род. ок. 1785 г.), дочь барона Герберта, австрийского посла в Константинополе и вдова Спенсера Смита, английского резидента в Штутгарте. В 1805 г. она жила, для поправления здоровья, на морских купаньях в Вальданьо, близ Виченцы; когда в северной Италии появились наполеоновския войска, она вместе с своей сестрой, графиней Аттомс, уехала в Венецию. В 1800 г. генерал Лористон овладел этим городом, и вскоре затем г-жа Смит была арестована и в сопровождении жандармов отвезена на итальянскую границу, откуда ее хотели сослать в Валансьен. Об этом случайно узнал один сицилианский дворянин, маркиз де-Сальво, на которого красота пленницы произвела сильное впечатление. Он решился ее освободить. С его помощью и вместе с ним она бежала из Брешии; после разных приключений, беглецы благополучяо прибыли в Грац, где жила другая сестра г-жи Смит, графиня Страссольдо.
История этого бегства подробно рассказана маркизом де-Сальво и герцогиней д'Абрантес. Байрон познакомился с Смит на Мальте и через нее послал своей матери, 15 сентября 1809 г., письмо, в котором сообщает некоторые подробности об этой "весьма необыкновенной женщине: "ея жизнь с самого начала так богата замечательными событиями, что в любом романе они показались бы невероятными... Она никогда не знала препятствий... возбудила ненависть Бонапарта участием в каком-то заговоре; много раз подвергала свою жизнь опасности, а ей нет еще и 25 лет... Со времени моего прибытия сюда я почти всегда находился в её обществе. Я нашел в ней женщину очень красивую, очень воспитанную и крайне эксцентричную...".
Кроме XXX--XXXII строф II песни: "Чайльд-Гарольда", Байрон посвятил ей стихотворения: "К Флоренсе" и "Стансы, сочиненные во время грозы" (близ Цицы, в октябре 1809 г.). Мур высказывает мнение, что поэт был влюблен не столько в нее, сколько в свое воспоминание о ней. "У человека, одаренного таким сильным воображением, как Байрон, который, передавая в своих стихах многое из собственной жизни, в то же время примешивал к своей жизни много поэтического вымысла, - трудно, распутывая сложную ткань его чувств, провести границу между воображаемым и действительным. Так, например, здесь его слова о неподвижном и лишенном любви сердце, которое не поддается очарованию этой привлекательной особы, совершенно противоречат некоторым его письмам, а в особенности - стихотворению, сочиненному во время грозы". Говоря это, Мур забывает о разнице во времени: цитированное стихотворение написано всего месяц спустя после отъезда поэта с "острова Калипсо", а строфы "Чайльд-Гарольда" - весною уже 1810 г. По словам биографа Байрона, Гольта, поэт "выказывал к ней страсть, но только платонически. Впрочем, она выманила у него ценный перстень с желтым бриллиантом".
Стр. 60. Строфа XXXIII.
То сердце, что ей мраморным казалось,
Молчанью и гордыне предано,
С искусством обольщения сроднялось;
Легко в обман могло вводить оно.
Большинство комментаторов приводит "в опровержение" этих стихов слова Байрона в письме к Далласу: "Я не Иосиф и не Сципион, но смело могу утверждать, что никогда в жизни не соблазнил ни одной женщины". Мур замечает, что эти стихи один из многих примеров байроновской манеры выставлять себя в дурном свете: "Как бы ни была велика распущенность его жизни в коллегии, - такия выражения, как "искусство обольщегия" и обман совершенно к нему не применимы".
Стр. 61. Строфа XXXVIII.
Албания, отчизна Искандеров.
"Албания заключает в себе част Македонии, Иллирию, Хаонию и Эпир. Искандер -- турецкое имя Александра; в начале строфы содержится намек на знаменитого Скандербега ("лорд Александр") {"Георгий Кастриота (1401--1467), Скандербег или Скандер-бей, младший сын одного албанского главаря, был послан, вместе с четырьмя своими братьями, заложником к султану Амурату II. После смерти отца, в 1432 году, он стал продолжать борьбу с турками и, в конце концов, достиг независимости Албании. "Его личная сила и ловкость были так велики, что его храбрость в сражении напоминала романтического рыцаря". Он умер в Лиссе, на Венецианском заливе, а когда этот остров был взят Магометом II, турки, говорят, вырыли его кости и повесили их себе на шею, как талисман против ран или амулет, внушающий храбрость.}. Я не знаю, правильно ли я сделал Скандербега земляком Алексагдра, родившагося в Пелле, в Македогии; но так называет его Гиббон, который, говоря об его подвигах, вспоминает также Пирра.
Об Албании Гиббон замечает, что эта страна "по сравнении с Италией известна меньше, чем внутренняя Америка". Обстоятельства, объяснение которых не имеет значения, привели г. Гобгоуза и меня в эту страну прежде посещения какой-либо другой части оттоманских владений; и, за исключением майора Лика {Вильям Мартин Лик (1777--1860), путешественник и нумизмат, напечатал между прочим "Разыскания в Греции" (1814). Он был "оффициальным резидентом" в Албании с февраля 1809 до марта 1810.}, бывшого в то время оффициальным резидентом в Янине, ни один англичанин никогда не бывал внутри страны дальше её главного города, как недавно уверял меня сам г. Лик. В эту пору (в октябре 1809 г.) Али-паша выступил в поход против Ибрагима-паши, оттеснил его в Берат и осадил эту сильную крепость. Прибыв в Янину, мы были приглашены в Тепалени, место рождения его превосходительства и его любимый серай, на разстоянии только одного дня пути от Берата; при современных обстоятельствах визирь устроил здесь свою главную квартиру. Пробыв несколько времени в столице, мы двинулись в путь; но хотя мы ехали со всеми удобствами и в сопровождении одного из секретарей визиря, нам понадобилось на эту поездку (по случаю дождей) целых девять дней, а на обратный путь только четыре.

По дороге мы проехали через два города, Арчирокастро и Либохабо, по своему положению, кажется, мало уступающие Янине; но никакой карандаш, никакое перо не в состоянии достойно представить вид окрестностей Ц(з)ицы и Дельвюнахи, деревни на границе между Эпиром и собственной Албанией.
Об Албании и её жителях я не хочу распространяться, потому что это будет гораздо лучше сделано моим товарищем по путешествию в сочинении, которое, вероятно, появится ранее выхода в свет моей поэмы; а мне не хотелось бы ни следовать за ним, ни предупреждать его {Речь о книге Гобгоуза "А Journey through Albania during the years 1809--1810", London. 1812.}. Но для объяснения текста необходимо сделать несколько замечаний. Арнауты или албанцы поразили меня сходством с шотландскими горцами в костюме, осанке, образе жизни. Даже и горы у них похожи на шотландския, только с более мягким климатом. Такая же юбка, хотя здесь белая; такая же худощавая, подвижная фигура; в их речи - кельтские звуки; а их суровые обычаи прямехонько привели меня в Морвену {Царство Фингала.}. Ни один народ не внушает своим соседям такой ненависти и страха, как албанцы; греки едва-ли считают их христианами, а турки едва-ли признают их мусульманами; в действительности же они представляют помесь того и другого, а иногда - ни то, ни другое. Нравы у них разбойничьи; они все вооружены; и арнауты с красными шалями, и черногорцы, и химариоты, и геги - все ненадежны {Жители Албании, из племени шкипетаров, делятся на две главные ветви: гегов на севере, большинство которых католики, и тосков на юге. Эти все магометане.}; прочие несколько отличаются по наружному виду, но в особенности - по характеру. Насколько я их знаю по личному своему опыту, я могу дать о них благоприятный отзыв. У меня служило двое, один христианин и один мусульманин, в Константинополе и в других местностях Турции, которые мне пришлось посетить; и редко можно найти людей, более верных в случае опасности и более неутомимых в службе. Христианина звали Насилием, мусульманина - Дервиш Тахири; первый был человек средних лет, а второй - приблизительно одних лет со мною. Василию Али-паша лично и строго приказал служить вам, а Дервиш был одним из пятидесяти албанцев, сопровождавших нас через леса Акарнании к берегам Ахелоя и далее, до Мисолонги в Этолии. Там я и взял его к себе на службу, и до самого моего отъезда ни разу не имел повода в этом раскаиваться.
Когда в 1810 г., после отъезда моего друга г. Гобгоуза в Англию, я заболел в Морее жестокой лихорадкой, эти люди спасли мне жизнь, пригрозив моему доктору, что если он меня в известный срок не вылечит, то они его зарежут. Этой утешительной уверенности в посмертном возмездии и решительному отказу исполнять предписания доктора Романелли я обязан своим выздоровлением. Последняго из своих английских слуг я оставил в Афинах; мой драгоман был так же болен, как и я сам, и мои бедные арнауты ухаживали за мной с таким вниманием, которое сделало бы честь и цивилизованным людям. У них было множество разных приключений; мусульманин Дервиш был замечательно красивый парень и в Афинах всегда был в ссоре с мужьями, до того, что четверо знатных турок однажды явились ко мне с жалобой, что он увел из бани женщину (которую он, впрочем, законным образом купил), - поступок, совершенно противный этикету. Василий также был, по его собственному убеждению, очень привлекателен; он с величайшим почтением относился к церкви, но с величайшим презрением смотрел на церковников, которых, при случае, и тузил самым еретическим манером. Но он никогда не проходил мимо церкви, не перекрестившись; и я помню, какой опасности подвергся он, войдя в Стамбуле в мечеть Софии, некогда бывшую христианским храмом. Когда я намечал ему непоследовательность его поведения, он неизменно отвечал: "Наша церковь святая, а наши попы - воры"; тут он, по обыкновению, крестился, а затем колотил первого встречного попа, если тот отказывался в чем-нибудь помочь; а содействие всегда бывало нужно там, где поп имеет влияние на своего деревенского старосту (коджа-баши). Надо сказать правду, - едва ли есть на свете более негодное племя, чем греческое низшее духовенство.
кошельком с пиастрами. Я послал за Дервишем; но его не сразу могли найти; он пришел как раз в то время, когда у меня были с визитом г. Логофети, отец бывшого английского консула в Афинах, и несколько других моих знакомых греков. Дервиш взял деньги, но вдруг бросил их на пол, всплеснул руками, закрыл ими лицо и, залившись горючими слезами, выбежал из комнаты. С этой минуты и до самого моего отъезда он не переставал печалиться, и все наши утешения вызвали с его стороны только один ответ: "Μ'αιφείνει" (он меня покидает!). Сеньор Логофсти, который раньше плакал только тогда, когда ему случалось потерять грош, был растроган; монастырский настоятель, моя прислуга, мои гости, - я думаю, что даже стерновская "глуповатая толстая судомойка" бросила бы свой "рыбный котел" и выразила-бы сочувствие непритворному и неожиданному горю этого варвара.
С своей стороны, вспоминая, что незадолго до моего отъезда из Англии один благородный и весьма близкий ко мне товарищ извинялся, что не может зайти ко мне проститься, потому что обещал своим родственницам ехать с ними "по магазинам", я был столько же удивлен, сколько и пристыжен сравнением настоящого случая с прошлым. Что Дервиш разстанется со мною с некоторым сожалением, - этого можно было ожидать: когда господин и слуга вместе карабкались по горам целой дюжины провинций, они неохотно разстаются друг с другом; но обнаруженное им чувство, составляющее такой контраст с его природною свирепостью, заставило меня изменить к лучшему мое мнение о человеческом сердце. Я думаю, что такая почти феодальная верность часто встречается у албанцев. Однажды, во время нашей поездки через Парнасс один англичанин из моей прислуги, заспорив с ним из-за багажа, толкнул его; к несчастию, Дервиш принял этот толчок за удар. Он не сказал на слова, но сел и опустил голову на руки. Предвидя неприятные последствия, мы сочли долгом разъяснить дело - и получили такой ответ: "Я был разбойником; теперь я солдат; ни один офицер никогда меня не ударил; вы - мой господин, я ел ваш хлеб; но - клянусь этим хлебом! (обычная клятва) - если бы дело было иначе, я заколол бы эту собаку, вашего слугу, и ушел бы в горы". С этого дня он уже не мог простить человека, который так неосторожно его оскорбил. Дервиш превосходно исполнял местный танец, о котором предполагают, что это остаток древней пиррической пляски. Так - это или нет, - танец этот мужественный и требует удивительной подвижности. Это - совсем не то, что глупая "ромейка", греческий тяжелый хоровод, который мы так часто видали в Афинах.
Албанцы вообще (я говорю не о провинциальных земледельцах, которые также носят это имя, а о горцах) отличаются изящной внешностью; самые красивые женщины, когда-либо мною виденные, по фигуре и чертам лица, были те, которых мы встретили поправлявшими дорогу между Дельвинахи и Либохабо, испорченную горными потоками. Их походка - совершенно театральная; во такое впечатление происходит, вероятно, от капота или плаща, который свешивается с одного плеча. Их длинные волосы напоминают спартанцев, а их храбрость на войне не подлежит никакому сомнению. Хотя у готов и есть кавалерия, но я никогда не видал хорошого арнаутского наездника; мои люди предпочитали английския седла, в которых, однако, вовсе не умели держаться. Но пешие они не знают усталости". (Прим. Байрона).
Стр. 61. Строфа XXXIX, ст. 1 и 2.
"Итака". (Прим. Байрона).
Байрон и Гобгоуз отплыли с Мальты на военном бриге Spider во вторник, 19 Сентября, 1809 г. (в письме к матери от 12 ноября Байрон указывает на 21 сентября) я прибыл в Патрас в ночь на воскресенье, 24 сентября. Во вторник, 20, в полдень, они снова пустились в путь, и вечером того же дня видели закат солнца в Мисолонги. На следующее утро, 27, они были в проливе между материком и Итакой; этот остров, принадлежавший тогда французам, остался от них влево. "Мы прошли очень близко", говорит Гобгоуз, "и видели несколько кустарников на бурой заросшей вереском земле, да два маленьких городка на холмах, выглядывавшие из-за деревьев". В этот день путешественники "мало подвинулись вперед". Обогнув мыс св. Андрея, южную оконечность Итаки, они прошли 28 сентября пролив между Итакой и Кефалонией, прошли мимо холма Этоса, на котором стоял так наз. "Замок Улисса", откуда Пенелопа смотрела на море в ожидании своего супруга. К концу того же дня они обогнули мыс Дукато ("Левкадскую скалу" - место гибели Сафо) и, пройдя мимо "древней горы", где некогда стоял храм Аполлона, в 7 часов вечера стали на якорь в Превезе. Поэзия и проза не всегда согласны между собою. Если, как говорит Байрон, они "завидели в дали Левкадскую скалу" в осенний вечер, и если над нею, когда они приблизились, уже сияла вечерняя звезда, то они должны были плыть очень быстро, чтобы к семи часам вечера дойти до Превезы, - миль за 30 оттуда к северу. Может быть, впрочем, и Гобгоуз ошибся в обозначении времени.
Стр. 62. Строфа XL.
"Акциум и Трафальгар не нуждаются в объяснениях. Сражение при Лепанто, также кровопролитное, но менее известное, происходило в Патрасском заливе. Здесь автор "Дон-Кихота" лишился своей левой руки." (Прим. Байрона).
Стр. 62. Строфа XLI, ст. 2.
"Левкадия, теперь - Санта-Мавра. Говорят, с этого мыса Сафо бросилась в море ("прыжок любовника")". Прим. Байрона.
Стр. 62. Строфа XLII.
"Утесы Сули" - горная область на юге Эпира. Сулийский округ в конце XVIII столетия образовал особую маленькую республику, оказавшую упорное сопротивление Али-паше. "Вершина Пинда", Монте-Мецово, часть хребта, отделяющого Эпир от Фессалии. С моря её не видно.
Стр. 62. Строфа XLV.
И римский вождь и азиатский царь.
"Говорят, что накануне сражения при Акциуме на приеме у Антония было тринадцать царей".
"Сегодня", писал Байрон матери 12 ноября 1809 г., "я видел остатки города Акциума, близ которого Антоний потерял мир, - в маленькой бухте, где едва ли могли бы маневрировать два фрегата. Единственный остаток древности - разрушенная стена. На другой стороне залива стоят развалины Никополя, построенного Августом в честь его победы".
Стр. 64. Строфа XLV.
Здесь Августа трофеи свет дивили.
Речь о Никополе, "городе побед", построенном Августом в воспоминание битвы при Акциуме, в 5 милях к северу от Превезы. "Никополь", развалины которого более обширны, находится в некотором разстоянии от Акциума, где сохранилось лишь несколько обломков стены ипподрома. Эти развалины представляют собою значительные массы кирпичного строения, в котором кирпичи были соединены между собой известью, в кусках такой же величины, как и самые кирпичи, и столь же прочных (Прим. Байрона).
Стр. 65.
Строфа XLVII. ст. 1.
Чрез воды ахерузския направил.
"По определению Пуквилля - Янинское озеро; но Пуквилль всегда ошибается" (Прим. Байрона).
Янинское озеро в древности называлось Памботис. При входе в Сулийское ущелье, где озеро внезапно замыкается, находилось болото Ахерузия, близ которого был оракул.
Слова Али - законы.
"Знаменитый Али-паша. Об этом необыкновенном человеке есть неточный рассказ в Путешествии Пуквилля". (Прим. Байрона).
Али-паша (1741--1822), "магометанский Бопанарт", сделался верховным правителем Эпира и Албании, приобрел господство над фессалийскими агами и продвинул свои войска до пределов древней Аттики. Безпощадный и ничем не стеснявшийся тиран, он был в то же время храбрым воином и искусным администратором. Интригуя то с Портою, то с Наполеономь, то с англичанами, натравливая друг на друга местных деспотов, он пользовался столкновениями враждебных интересов для собственного возвеличения. Венецианския владения на восточном побережье Адриатического моря, перешедшия в 1797 г. к Франции по Кампоформийскому трактату, были отняты у французов. Али-пашой: он разбил в 1798 г. генерала Ла-Сальсетта на равнинах Никополя и овладел, за исключением Порчи, всеми городами, которые и удержал за собою именем султана. Байрон говорит об его "почтенном старческом лице" в Чайльд-Гарольде (II. 47, 62) и об изящной руке в - Дон-Жуане (IV, 45); его отношение к Джафару-паше ("в Аргирокастре или Скутари не помню наверно") дало материал для 14-й и 15-й строф 11 песни Он подробно описал Али-пашу в письме к матери из Превезы, от 12 ноября 1809: "Али считается человеком выдающихся способностей; он управляет всей Албанией (древний Иллирик), Эпиром и частью Македонии; его сын, Вели-паша, к которому он дал мне письмо, управляет Мореей и пользуется большим влиянием в Египте; словом, это один из самых могущественных людей в Оттоманской империи. Прибыв в Янину, я узнал, что Али-паша с своей армией находится в Иллирике... Он услышал, что в его владения приехал знатный англичанин, и приказал коменданту Янины отвести мне дом и снабдить меня всем необходимым безплатно... Через девять дней я приехал в Теналин... и был представлен Али-паше. Я был в полной форме федерального штаба, с весьма великолепной саблей, и пр. Визирь принял меня в большой комнате с мраморным полом; посередине бил фонтан; вдоль стен стояли красные диваны. Он принял меня стоя, - удивительная любезность со стороны мусульманина, - и посадил меня по правую руку от себя... Его первый вопрос был: почему я, будучи в таком возрасте, покинул свою родину? Турки не имеют понятия о путешествии ради удовольствия). Затем он сказал, что английский резидент, капитан Лик, сообщил ему, что я принадлежу к знатной семье. Он прибавил, что он и не сомневается в моем благородном происхождении, потому что у меня маленькия уши и маленькия белые руки; моя фигура и костюм ему понравились. Он сказал, чтобы я, пока буду в Турции, смотрел на него, как на отца, и что он будет считать меня своим сыном. И в самом деле он относился ко мне, как к ребенку, присылая мне раз по двадцати в день миндалю и шербету, фруктов и сладостей. Он просил меня посещать его чаще, и по вечерам, когда он был свободен... Его превосходительству 60 лет; он очень толст, невысок ростом, но у него красивое лицо, светло-голубые глаза и белая борода; он очень любезен и в то же время полон достоинства, которым турки вообще отличаются. Его внешность совершенно не отвечает его действительным свойствам, так как он безжалостный тиран, совершивший множество ужасных жестокостей; он очень храбр и такой хороший полководец, что его прозвали магометанским Бонапартом. Наполеон два раза предлагал ему сделать его эпирским королем, но он предпочитает английские интересы и ненавидит французов; он сам это мне сказал"...
Стр. 65. Строфа XLVII.
Порой вступают в бой с его войсками.
"Пять тысяч сулиотов, среди скал и в цитадели Сули, в течение восемнадцати лет оказывали сопротивление тридцати тысячам албанцев; наконец, цитадель была взята с помощью подкупа. В этой борьбе были отдельные эпизоды, достойные, пожалуй, лучших дней Греции" (Прим. Байрона).
Стр. 65. Строфа XLVIII.
"Монастырь и деревня З(Ц)ица находятся в четырех-часовом разстоянии от Янины, столицы пашалыка. В долине протекает река Каламас (древний Ахерон), образующая невдалеке от Цицы красивый водопад. Это, может быть, самое красивое место в Греции, хотя окрестности Дельвинахи и некоторые местности Акарнавии и Этолии и могут оспаривать пальму первенства. Дельфы, Парнасс, а в Аттике даже мыс Колонна и порт Рафти гораздо менее красивы, как и все виды Ионии или Троады; я мог-бы, пожалуй, прибавить окрестности Константинополя; но, в виду их совершенно иного характера, сравнение едва-ли уместно". (Прим. Байрона).
"Цица - деревня, населенная греческими крестьянами", говорит спутник поэта, Гобгоуз. "Может быть, во всем свете нет вида более романтического, чем тот, который открывается здесь с вершины холма. На переднем плане - легкая покатость, оканчивающаяся с обеих сторон зеленеющими холмами и долинами, в которых раскинулись виноградники и бродят многочисленные стада"...
Путешественники выехали из Превезы 1 октября и приехали в Янину 5-го. Оттуда они выехали 11 октября, к ночи прибыли в Цицу, 13го уехали оттуда и 19го были в Тепелени. Под вечер 11 октября, при приближении к Цице, Гобгоуз и албанец Василий поехали вперед, оставив Байрона с багажем позади. Стемнело. Как раз в то время, когда Гобгоузу удалось добраться до деревни, пошел проливной дождь. "Гром гремел, казалось, без перерыва; не успевало эхо прокатить в горах один удар, как над нашими головами уже разражался другой". Байрон с своим драгоманом и багажем находились всего в милях трех от Цицы, когда началась эта гроза. Они заблудились, и только после долгих странствований и разных приключений были приведены десятью провожатыми с факелами к какой-то хижине. Было уже 3 часа утра. Тут-то Байрон и написал "Стансы во время грозы".
Стр. 66. Строфа XLIX.
В подлиннике не "монах", а caloyer - калугер.
"Так (калугер) называются греческие монахи". (Прим. Байрона).
Слово "Калугер" происходит от поздняго греческого καλόγηρος, - "добрый старец".
"Мы вошли в монастырь, после некоторых переговоров с одним из монахов, через небольшую калитку, обитую железом, на которой очень заметны были следы сильных ударов и которую, действительно, прежде чем в этой местности водворено было спокойствие под могучим управлением Али, тщетно пытались разбивать шайки разбойников, постоянно появлявшияся то в том, то в другом округе. Настоятель, низенький, смирный человечек, угостил нас в теплой комнате виноградом и приятным белым вином, которое, до его словам, не вытоптано ногами, а выжато из гроздьев руками; и нам так понравилось все, нас окружавшее, что мы сговорились поселиться здесь по возвращении от визиря". (Гобгоуз).
Стр. 67. Строфа LI.
Амфитеатром мрачные громады
Хемариотских Альп вдали блестят.
"вулканическим" амфитеатром.
"Химариотския горы, повидимому, были вулканическими". (Прим. Байрона),
"Байрон, вероятно, говорит о Керавнских горах, которые "до самой вершины покрыты лесом, но местами обнаруживают широкия пропасти среди красных утесов" (Гобоуз).
То Ахерон.
"Теперь называется Каламас". (Прим. Байрона).
Стр. 67. Строфа LII.
Албанский плащ. (Прим. Байрока).
Стр. 67--68. Строфа LIII.
Положение древней Додоны у подошвы горы Томароса (гора Олоцика), в долине Чарковицы, было определено окончательно только в 1876 г. раскопками, произведенными Константином Карапаносом, уроженцем Арты. Сзади Додоны, на вершине цепи холмов, находятся дубовые поросли, может быть, происходящия от тех "говорящих дубов", которые возвещали волю Зевса О "пророческом источнике" комментатор Вергилия Сервий говорит, что "близ храма Зевса, по преданию, находился огромный дуб, из под корней которого вытекал ручей, передававший в своем журчании волю богов". Байрон и Гобгоуз, во время одной из своих экскурсий из Янины, разсматривали развалины амфитеатра и восхищались ими, не зная, что именно здесь-то и была Додона.
Севера к Цицерону, которое Байрон цитирует в примечании к строфе 44-й песни IV.

Стр. 65. Строфа LVI.
Угас закат за гранью Томерита.
"В древности - гора Томарус". (Прим. Байрона).
"Река Лаос была в полноводье в то время, когда автор переезжал ее. Выше Тепалина она кажется такою же широкою, как Темза у Вестминстера; таково, по крайней мере, мнение автора и его товарища по путешествию. Летом она должна быт гораздо уже. Это, без сомнения, самая красивая река европейского Востока; ни Ахелой, ни Алфей, ни Ахерон, ни Скамандр, ни Каистер не могут равняться с нею по ширине и красоте". (Прим. Бтирона).
Стр. 65. Строфа LV.
Вдали как метеоры, в тьме ночной
"Во время праздников Рамазана галлерея каждого минарета украшается маленькими лампочками. Издали каждый минарет кажется светлой точкой на темном фоне неба, - "метеором", а в большом городе, где их много, они представляются роем огненных мух". (Тозер).
Стр. 69. Строфа LIX.
"Ночью мы не могли спать из-за постоянного шума на галлерее, барабанного боя и громкого пения муэззина" или певца, призывавшого турок на молитву с минарета мечети, находившейся рядом с дворцом. Этот певец был еще мальчик и пел свой гимн или "эраун" в тоне глубоко меланхолического речитатива. Первое восклицание он повторял четыре раза, все остальные слова - по два раза, и оканчивал свое исповедание веры, дважды выкрикивая, протяжно и произительно: "гу!" Д'Осон приводит полный текст этого призыва: "Бог велик! (4 раза). Исповедую, что нет Бога, кроме Бога! Исповедую, что Магомет пророк Божий! Идите на молитву! Идите в храм спасения! Бог велик! Нет Бога, кроме Бога!"
Стр. 70. Строфа LXIII.
Теосский бард - Анакреон.
Кто лил ее в дни младости, тот тонет
Эти слова Байрона оказались пророчеством. 5 февраля 1822 г. произошло свидание между Али и Магометом-пашой. Когда последний встал, чтобы выйти из комнаты, Али пошел проводить его до дверей и, прощаясь, низко поклонился; в эту минуту Магомет выхватил кинжал и неожиданно поразил Али в сердцо. Затем он спокойно вышел на галлерею и сказал своей свите: "Али теналенский мертв". Голова Али была отослана в Константинополь. (Финлей. Ист. Греции).
Стр. 72. Строфа LXVI.
"Намек на потерпевших крушение корнваллийцев". (Прим. Байрона).
Стр. 72. Строфа LXVII.
Путешественники выехали из Янины 3 ноября и прибыли 7-го в Превезу. В полдень 9 ноября они отплыли в Патрас на гальоте Али. Это было судно около 50 тонн вместимостью, с тремя невысокими мачтами и широким косым парусом. Вместо того, чтобы обогнуть мыс Дукато, они были отнесены в море к северу и только в час ночи могли бросить якорь в порте Фанара на сулиотском берегу. Под вечер 10 ноября они поехали на ночлег в Волондорако, где были очень хорошо приняты местным албанским старшиной и расположенными там войсками визиря. Затем они уже не сели на гальот, а возвратились в Превезу сухим путем. Так как в области к северу от Артского залива было неспокойно, и по дорогам встречались многочисленные шайки разбойников, то путешественники окружили себя конвоем из 37 албанцев, наняли другой гальот и 13 ноября переправились через залив до крепости Воницы, где и остановились на ночь. На следующий день, в 4 часа пополудни они приехали в Лутраки, - "в глубине окруженной утесами бухты в юго-восточном углу Артского залива". Двор находившагося на берегу барака и был местом пляски паликаров, описанной в стр. LXXI.
Стр. 74. LXXI.
Вина пурпурной влагой.
"Албанские мусульмане не воздерживаются от вина, - да и прочие редко". (Прим. Байрона),
7. Сидели паликары.
"Паликар" - в сокращенном обращении к одному лицу, от Παλικαρι (παλληκάρι) - общее наименование солдат у греков и албанцев, говорящих по-ромейски (новогречески); собственно значит: "молодец". (Прим. Байрона).
Стр. 74. Строфа LXXII, ст. последний.
Чем на мелодии, напевы дикарей.
"Как образчик албанского или арнаутского наречия в Иллирике, привожу здесь две самые распространенные народные хоровые песни, которые поются обыкновенно во время пляски - безразлично, как мужчинами, так и женщинами. Первые слова - не имеют значения: это припев, подобные которому есть и у нас, и в других языках.
|
1. Bo, Bo, Bo, Во, Во, Во, Naciarura, popusu. |
|
|
2. Naciarura na civiu Ha pen derini ti biu. |
Я иду, я бегу; отвори дверь, чтобы я мог войти. |
|
3. Ha pe uderi escrotini. |
Отвори дверь на обе подовины, чтобы я мог взять свой тюрбан. |
|
4. Caliriote me surme Ea ha pe pse dua tive. |
Калириоти черноглазая, отвори ворота,чтобы я мог войти {Албанцы, особенно женщины, часто называются "Калириоти"; почему - мне не удалось узнать.}. |
|
5. Gi egem spirta esimiro. |
Я слышу тебя, душа моя. |
|
6. Caliriote vu le funde Edo vete tunde tunde. |
|
|
7. Caliriote me surme Ti mi pute poi mi le. |
Калвриотв черноглазая, поцелуй меня. |
|
8. Se ti puta citi mora |
Коли я тебя поцелую, - что из того? моя душа горит огнем. |
|
9. Va le ni il che cadale Celo more, more celo. |
Пляши легче, красивее и красивее. |
|
10. Plu huron cia pra seti. |
Не поднимай так много пыли, - запылишь свои вышитые чулки. |
Последний куплет сбивает комментатора: конечно, албанцы носят чулки из очень красивой ткани, но у их дам к которым, надо думать, относится приведенное обращение) выше небольших желтых сапожек или туфель нет ничего, кроме красивой и иногда очень белой ноги. Арнаутския девушки гораздо красивее гречанок, да и костюм их гораздо живописнее. Оне дольше сохраняют свою изящную внешность, потому что все время проводят на открытом воздухе. Надо заметить, что арнаутский язык не имеет письменности, а потому слова этой песни, как и следующей, переданы согласно их произношению. Оне записаны человеком, который хорошо знает этот язык и говорит на нем; он афинский уроженец.
|
1. Ndi sefda tinde ulavossa |
Я ранен любовью к тебе и пылаю от любви. |
|
2. Ah vaisisso mi privi lofso. Si mi rini mi la vosse. |
Ты извела меня, девушка! Ты поразила мое сердце. |
|
3. Silti eve tulati dua. |
Я сказал, что мне не надо приданого, кроме твоих глаз и ресниц. |
|
4. Roba stinori ssidua Qu mi sini vetti dua. |
|
|
5. Qurmini dua civilemi Roba ti siarmi tildi eni. |
Отдай мне свои прелести, а приданое пусть пожрет огонь. |
|
6. Utara pisa vaisisso me simi rin ti hapti |
Я люблю тебя, девушка, всей душой, а ты меня бросила, как засохшее дерево. |
|
7. Udi vura udorini udiri cicova cilti mora Udorini talti hollua u ede caimoni mora. |
Если я положил мою руку тебе на грудь, - какая мне от этого польза? Руку я отнял, а пламя остается. |
Критобула или Клеобула, потом несколько дней жаловался на ломоту в руке до самого плеча и вследствие этого весьма благоразумно решил впредь учить своих учеников, не трогая их". (Прим. Байрона).
Стр. 71. Строфа LXXII.
Гремят барабаны...
"Эти куплеты отчасти заимствованы из разных албанских песен, насколько я мог их усвоить в изложении албанца, говорившого по-ромейски и по-итальянски".
Превизы припомните штурм и резню.
"Превиза" - вернее "Превеза" (славянское название, означающее "перевоз")
"Превеза отнята была штурмом у французов в октябре 1798 г." (Байрон) "Албанцы очень гордились взятием Превезы, воспевали его в песнях, и между ними не было, кажется, ни одного, который не произносил бы имени Али-паши с особенно энергическим выражением" (Гобгоуз).
Стр. 76. LXXIII.
Эллада, прежней доблести могила!
"Несколько мыслей об этом предмете находится в прилагаемых заметках". См. дальше (стр. 402) "Дополнит. примечания".
Стр. 70. Строфа LXXIV.
Когда ты шел за Фразибулом вслед.
"Фразибул, прежде чем изгнать из Афин "Совет тридцати", взял Филэ, от которой еще остаются значительные развалины. С высоты этого укрепления открывается прекрасный виде на Афины".
С этого места Байрон и Гобгоуз впервые увидели Афины, 26 декабря 1809 г. Развалины, по сообщению Гобгоуза, называются теперь Бичла-Кастро, т. е. Часовая башня.
Стр. 78. LXXVII.
Быт может, вагабиты с силой новой
Зальют рекой кровавою Восток.
"Мекка и Медина были захвачены, несколько лет тому назад, вагабитами, - сектой, с каждым годом расширающейся". (Байрон).
Вагабиты, название которых происходит от имени арабского шейха Мохаммед-бен-Абдэль Вагаб, появились в центральной Аравии, в провинции Недж, около 1700 года Полу-социалисты, полу-пуритаiiе они требовали буквального исполнения предписаний Корана. В 1803--4 гг. они разграбили Мекку и Медину, а в 1808 г. вторглись в Сирию и овладели Дамаском. Во время пребывания Байрона на Востоке они находились на вершине своего могущества и казались угрожающими самому существованию Турецкой империи.
Стр. 78. LXXIX.
Стамбул, столица древней Византии.
"Я видел развалины Афин, Эфеса и Дельф; проехал большую часть Турции и много других стран Европы, а также некоторые местности Азии; но никогда не видел произведения природы или искусства, которое вызывало бы такое сильное впечатление, как вид в обе стороны от Семибашенного замка до конца Золотого Рога".
Стр. 80. Строфа LXXXV.
Снег гор твоих от солнечных лучей
Не тает...
"На многих горах, и в частности - на Лиакуре, снег никогда не исчезает, несмотря на чрезвычайные летние жары; но в долинах я его никогда не видал, даже знмой".
Стр. 81. LXXXVI.
Кой-где стоит колонна одиноко...
"Мрамор для постройки афинских общественных зданий брался из горы Пентелика, которая теперь называется Мендели. Огромная пещера, образовавшаяся от каменоломни, существует до сих пор и будет существовать вечно". (Байрон).
При слове: "Марафон" воспоминанья...
"Siste viator, - heroa calcas!" (Стой, путник, ты попираешь прах героя!) такова была эпитафия знаменитого графа Мерси {Франсуа Мерси де-Лоррэн, сражавшийся против протестантов во время Тридцатилетней войны, был смертельно ранен в сражении при Нордлингене, 3 августа 1645 г.}). Что же должны мы чувствовать, стоя на кургане двухсот греков, павших при Марафоне? Главная могила недавно была раскопана Фовелем; изследователем было найдено лишь немного остатков древности (ваз и т. и ). Мне предлагали купить Марафонскую равнину за 16 тыс. пиастров, - около 900 фунтов стерлингов. Увы! "Expende quot libras in duce summo - invenies!" (Взвесь - и узнаешь, сколько фунтов в главном вожде!) {Стих Ювенала (Expende Annibaltm, и пр.), взятый эпиграфом к оде Байрона) "К Наполеону Бонапарту" написанной 10 апреля 1814 г. См. выше, стр. 345.}. Неужели прах Мильтиада не стоил больше? Я едва ли мог бы купить иначе, как на " (Прим. Байрона). Байрон посетил Марафон 25 янв. 1810 г.
Стр. 85. Строфа XCVIII.
Сознанье, что друзей сгубило время.
Что одинок страдалец на земле.
"Смерть опять нанесла мне удар: я лишился человека, который был мне очень дорог в лучшие дни; но "я почти совсем забыл вкус горя", {См. введение, стр. 4--5.} и "ужасом напитан" {Выражения Макбета (V, 5).} до того, что стал совсем безчувственным; у меня не осталось ни одной слезы для такого события, которое, пять лет тому назад, пригнуло бы меня головой к земле. Мне как будто суждено было в юности испытать все величайшия несчастия моей жизни. Друзья падают вокруг меня, и я останусь одиноким деревом раньше, чем засохнуть. Другие люди всегда могут найти себе убежище в своей семье; у меня нет убежища, кроме собственных размышлений, а они не дают никакого утешения ни теперь, ни в будущем, кроме эгоистического удовольствия переживать людей, которые лучше меня. Я в самом деле очень несчастен, и вы извините меня за то, что я это говорю, так как вам известно, что я неспособен притворяться чувствительным".
Дополнительные примечания Байрона к ИИ песне "Чайльд-Гарольда".
I {*}.
"Я пишу примечания к своему quarto (Меррей хочет издать непременно quarto), а Гобгоуз пишет текст своего quarto; если вы зайдете к Меррею или Кауторну, вы услышите и о том, и о другом", говорит Байрон в письме к Ходжсону от 25 сент. 1811 г. "Я нападаю на Де-Паува, Торнтона, лорда Эльджина, на Испанию, Португалию, Эдинбургское Обозрение, путешественников, художников, антиквариев и прочих: видите, какое блюдо кислой капусты полемики я изготовлю для самого себя. Теперь я уже за себя не отвечаю; коли меня с самого начала заставили разсердиться, так я дойду до конца. Vae victis! Если я паду, - я паду со славой, сражаясь с врагом".
Прежде, чем говорить что-нибудь о городе, о котором каждый путешественник или не путешественник считает необходимым что-нибудь сказать, я попрошу мисс Оуэнсон {Мисс Оуэнсон (лэди Моргэн, 1783--1859) в 1812 г. напечатала роман: "Женщина, или Ида-афинянка", в 4-х томах.}, если она пожелает избрать афинянку героиней своего следующого четырехтомного романа, выдать ее замуж за какого-нибудь более приличного господина, нежели "Дисдар-ага" (который, кстати сказать, вовсе и не ага), самый невежливый из мелких офицеров, величайший покровитель грабежа, какого когда-либо видели Афины (за исключением лорда Эльджина), недостойно занимающий Акрополь с недурным жалованьем 150 пиастров (8 ф. ст.) в год, из которого должен только оплачивать содержание своего гарнизона, самого иррегулярного войска в нерегулярной (дурно управляемой) Оттоманской империи. Я говорю это с нежностью, так как однажды я уже был причиною того. что супруг "Иды Афинской" чуть не подвергся наказанию палками, и так как сказанный "Дисдар" - муж сердитый и бьет свою жену, поэтому я прошу и умоляю мисс Оуэнсон домогаться для "Иды" права жить отдельно от мужа. Предпослав это замечание, касающееся предмета, столь важного для читателей романов, я могу теперь оставить Иду и обратиться к месту её рождения.
Оставляя в стороне магическую силу имени и все те ассоциации идей, повторять которые было бы излишним педантством, самое местоположение Афин не может не быть привлекательным для всех, кто способен любоваться произведениями искусства или природою. Что касается климата, то здесь, - так, по крайней мере, мне показалось, - постоянная весна; в продолжение восьми месяцев не было дня, чтобы я не ездил верхом; дождь идет очень редко, снега в долинах никогда не бывает, а пасмурный день является приятным исключением. Ни в Испании, ни в Португалии, и нигде на Востоке, где мне пришлось побывать, кроме Ионии и Аттики, я не видел такой резкой разницы местного климата с нашим английским; в Константинополе, где я пробыл май, июнь и часть июля (1810), вы имеете полное право проклинать климат и жаловаться на сплин пять дней в неделю.
правым в своем описании беотийской зимы.
В Ливадии мы нашли ésprit fort в лице греческого епископа, который не уступит любому свободному мыслителю! Сей почтенный ханжа с великой неустрашимостью издевался над своей религией (только не перед своей паствой) и называл мессу "coglioneria" (чепуха, обман). по этой причине нам нельзя было быть о нем хорошого мнения; но для беотийца, несмотря на все свои нелепости, он все-таки был довольно оживлен. Этот феномен (за исключением, разумеется, Фив, развалин Херонеи, Платейской равнины, Орхомена, Ливадии и её так называемой пещеры Трофония) был единственной замечательною вещью, которую мы видели прежде перехода через гору Киферон.

Диркейский источник ворочает колеса мельницы; мой сотоварищ (который, решив быть одновременно и классиком, и чистоплотным, в нем выкупался) признал этот источник за Диркейский, и всякий, кто пожелает, может с ним не согласиться. В Кастри мы напились из целой полудюжины ручейков, из которых иные не отличались идеальной чистотою, прежде, чем решить, к нашему удовольствию, который из них подлинный Кастальский ключ; но и у него был вкус довольно скверный, вероятно - от снега, хотя он и не наградил нас эпической лихорадкой, как бедного доктора Чендлера.
С высоты форта Филэ, от которого еще остались значительные развалины, перед нашими глазами сразу открылась равнина Афин, Лептелик, Гиметт, Эгейское море и Акрополь; по моему, этот вид прекраснее даже вида Синтры или Стамбула. С ним не может равняться вид из Троады, с Идой, Геллеспонтом и Афонской горой вдали, - хотя этот вид и гораздо обширнее.
Я много слыхал о красоте Аркадии, но за исключением вида из Мегаснелийского монастыря (который, по обширности, уступает виду из Цицы) и спуска с гор на дорогу из Триполицы в Аргос, Аркадия представляет не много достойного её имени.
dulces moriens reminiscitur Argos.
(Aeneid. X, 782).
"in mediis audit duo littora campis" (Thebaid. I, 335) в самом деле слышал оба берега, переходя по Коринфскому перешейку, то значит, у него уши были лучше, чем у кого бы то ни было проезжавшого здесь после него.
"Афины", говорит знаменитый топограф {Gell, "все еще остаются самым цивилизованным городом в Греции". Да, в Греции - может быть; но не у греков, так как все они признают Янину, в Эпире, лучшим городом по здоровому климату, по условиям жизни, образованности и даже по языку её жителей. Афиняне замечательны своей ловкостью, а низшие классы афинского населения довольно удачно характеризуются пословицей, которая ставит их наряду с "салоникскими евреями и негропонтскими турками".
между собою расходятся.
Французский консул г. Фовель, проведший тридцать лет преимущественно в Афинах, человек, которому никто из знавших его не может отказать в признании за ним качеств талантливого художника и обходительного джентльмена, часто говорил в моем присутствии, что греки не заслуживают освобождения; он доказывал это ссылкою на их "национальную и личную развращенность", забывая, что эта развращенность происходит от причин, устранить которые возможно только тем способом, какого он не одобряет.
Г. Рок, почтенный французский коммерсант, уже давно поселившийся в Афинах, уверял с весьма забавною важностью: "Сэр, это все та же сволочь, какая была " замечание, неприятное для "хвалителей времен протекших". Древние греки изгнали Фемистокла, новые надувают г. Рока; такова всегда была участь великих людей!
Одним словом, все французы, постоянно здесь живущие, и большинство временно пребывающих англичан, немцев, датчан и пр. держатся о греках одного и того же мнения, и большею частью по тем же основаниям, в силу которых турок в Англии станет осуждать огулом всю нацию за то, что он был обманут лакеем или обсчитан прачкой.
Конечно, нельзя было не поколебаться. когда гг. Фовель и Лузиери, два величайших современных демагога, разделяющие между собою власть Перикла и популярность Клеона и изумляющие воеводу своими постоянными раздорами, сошлись друг с другом в решительном, nulla virtute redemptum (Juvenal. и весьма внушительного вида, приготовленных к печати людьми почтенными и остроумными, не считая обычных книг, составленных из общих мест; но, если мне позволено будет сказать это, никого не обижая, мне кажется немножко смелым заявлять так решительно и упорно, как это почти все делают, что греки не могут стать лучше, потому что они очень худы.
Итон и Соинини ввели нас в заблуждение своими панегириками и проектами; но, с другой стороны, Де-Пуав и Торнтон унизили греков гораздо больше, чем они этого заслуживают {Вильям Итон (1798--1800) напечатал "Обзор Турецкой Империи", в котором выступил защитником независимости греков. Couнини де-Манонкур (1751--1812), другой пылкий филэллин, напечатал в 1801 г. "Путешествие по Греции и Турции". Корнелиус (1739--1799), голландский историк, напечатал в 1787 г. "Философския разыскания о греках". Томас Торнтон издал в 1807 г. сочинение под заглавием: "Современное состояние Турции".}.
Греки никогда не будут независимыми: они никогда не сделаются господами, какими были некогда, - и не дай Бог, чтобы сделались; но они могут быть подданными, не будучи рабами. Наши колонии независимы, но свободны и деятельны; такою же может сделаться впоследствии и Греция.
может терпеть человечество. Вся их жизнь есть борьба с правдой; они порочны ради самозащиты. Они до такой степени не привыкли к вежливому обращению, что когда случайно его встречают, относятся к нему с подозрением, подобно тому как собака, которую часто бьют, хватает вас за пальцы, если вы вздумаете ее приласкать. "Они неблагодарны, заведомо страшно неблагодарны!" таково общее мнение. Но, во имя Немезиды, - за что же им быть благодарными? Где то человеческое существо, которое когда-либо оказало благодеяние греку или грекам? Они должны быть благодарны туркам за оковы, франкам за нарушенные обещания и коварные советы. Они должны быть благодарны художнику, который срисовывает их развалины, и антикварию, который эти развалины увозит; путешественнику, конвой которого их бьет, писателю, дневник которого их злословит. Вот и все их обязанности по отношению к иностранцам.
II.
Францисканский монастырь.
Афины, 23 января 1811 г
Среди остатков варварского политического строя прежних веков находятся следы рабства, все еще существующого в различных странах, обитатели которых, как бы они ни отличались друг от друга по своей вере и обычаям, почти все подвергаются одинаковому притеснению.
греков, которые иначе так же мало могут разсчитывать на избавление от турок, как евреи - на избавление от человечества вообще.
О древних греках мы знаем более, чем достаточно; по крайней мере, молодые люди в Европе отдают много времени изучению греческих писателей и истории, хотя это время можно было бы употреблять с большею пользою на изучение истории собственной страны. Современными греками мы пренебрегаем, может быть, больше, чем они того заслуживают; и в то время как всякий, претендующий на титул образованного человека, мучит себя в молодости, а иногда и в более позднем возрасте, изучая греческий язык и речи афинских демагогов в защиту свободы, - действительные или предполагаемые потомки этих смелых республиканцев оставляются на жертву деспотизму своих владык, хотя лишь очень незначительное усилие нужно для того, чтобы сбросить с них эти цели.
Говорить, как говорят сами греки, о возможности для них снова занять прежнее высокое положение было бы смешно, и весь мир засвидетельствовал бы только свое варварство, утвердив политическую самостоятельность Греции; но кажется, не встретилось бы больших препятствий, - кроме разве апатии франков, - к тому, чтобы обратить Грецию в полезное вассальное владение, или даже и в свободное государство с собственной гарантией; впрочем, надо сказать, что многие хорошо осведомленные люди сомневаются в практической возможности даже такого исхода.
Греки никогда не теряли надежды, хотя в настоящее время они еще более прежнего не сходятся между собою в мнениях о том, кто может явиться их вероятным освободителем. Религия побуждает их надеяться на Россию; но они уже дважды были обмануты и покинуты этой державой и никогда не забудут страшного урока, полученного ими после русского отступления из Мореи. Французов они не любят; хотя порабощение остальной Европы, по всей вероятности, поможет освобождению материковой Греции. Жители островов надеются на помощь англичан, так как последние еще очень недавно владели островами Ионической республики, за исключением Корфу {Ионические острова, за исключением Корфу и Паксоса, достались англичанам в 1809, 1810 гг. Паксос был взят в 1814 г., а Корфу, блокированный Наполеоном, сдался только после реставрации Бурбонов, в 1815 г.}. Но всякий, кто явится к ним с оружием в руках, будет встречен с радостью; и когда этот день наступит, - тогда пусть небо сжалится над турками, потому что от гяуров им жалости ожидать нельзя.
Но вместо того, чтобы разсуждать о том, чем греки были, и пускаться в предположения о том, чем они могут стать, лучше посмотрим, каковы они теперь.
красноречивые периоды в их похвалу и печатают весьма курьезные размышления об их прежнем положении, которое на их настоящую судьбу имеет так же мало влияния, как существование Инков - на будущее благосостоянии Перу.
Один очень умный человек называет греков "естественными союзниками англичан"; другой, не менее умный, не желает позволять им быть чьими бы то ни было союзниками и отрицает подлинность их происхождения от древних греков; третий, еще более умный, чем первые два, сочиняет греческую империю на русской основе и осуществляет (на бумаге) все фантазии Екатерины II. Что касается вопроса об их происхождении, то разве не все равно, происходят ли майноты прямо от спартанцев или нет, и можно ли назвать нынешних афинян такими же туземцами Аттики, как гиметских пчел или кузнечиков, с которыми они когда-то себя сравнивали? {Майноты или майнаты, называемые так от Майны, близ мыса Тенара, были морейские горцы, "замечательные своею любовью к насилиям и грабежу, но также и своей смелостью и независимостью"... "Педанты называли майнатов потомками древних спартанцев", но "они не могут происходить ни от илотов, ни от периэков... Они не могут иметь претензий на древнее происхождение". (Финлэй, Ист. Греции).} Что за дело Англичанину, течет ли в его жилах датская, саксонская, норманская или троянская кровь? И кто, кроме валлийца, удручен желанием непременно происходить от Карактака?
Бедные греки вовсе не так богаты благами мира сего, чтобы нужно было оспаривать даже их притязания на древность; а потому г. Торнтон поступает очень жестоко, желая отнять у них все, что им оставило время. т. е. их родословную, которую они защищают тем упорнее, что ведь только ее и могут назвать своею собственностью. Следовало бы издать вместе и сравнить между собою сочинения гг. Торитона и Де-Паува, Итона и Соинини: на одной стороне - парадокс, на другой предразсудок. Г. Торнтон полагает, что он имеет право на доверие публики, потому что прожил четырнадцать лет в Пере; может быть, он и может компетентно говорить о турках, но это не дает ему правильного понятия о действительном положении Греции, точно так же как многолетнее пребывание в Уоппинге не дает возможности судить о западной Шотландии.
"Золотой Рог, протекающий между городом и предместьями, составляет демаркационную линию, за которую редко переходят европейские жители Константинополя" (Гобгоуз).}, и если г. Торнтон переезжал через Золотой Рог не чаще, чем это обыкновенно делают другие его товарищи по торговле, то я не могу особенно полагаться на его осведомленность. Я недавно слышал, как один из этих джентльменов хвастался своим малым знакомством с городом и с победительным видом уверял, что он за столько-то лет был в Константинополе всего четыре раза.
Что касается поездок г. Торнтона на греческих судах по Черному морю, то оне могли дать ему такое же понятие о Греции, как переезд на шотландском "смаке" в Бервик - о доме Джонни Грота. На каких же основаниях он желает присвоить себе право осуждать огулом целый народ, о котором он очень мало знает? Курьезно, что г. Торнтон, который так щедр на упреки Пуквиллю во всех случаях, когда дело касается турок, все-таки обращается к нему как к авторитету по части греков и называет его безпристрастным наблюдателем. Но доктор Пуквилль имеет так же мало прав на такое название, как и г. Торнтон - на его раздачу.
В действительности, наши сведения о греках, и в частности - об их литературе, находятся в самом плачевном состоянии, и нет вероятности, чтобы мы познакомились с этим предметом лучше до тех пор пока наши отношения к ним не станут более близкими или пока они не получат независимости. На сообщения проезжих путешественников так же мало можно полагаться, как и на сплетни раздосадованных торговых агентов; но пока, за неимением лучшого, мы должны довольствоваться и тем малым, что приобретается из подобных источников {*}.
Д-р Пуквилль рассказывает длинную историю об одном мусульманине, глотавшем сулему в таких количествах, что его прозвали "Сулейман ейен". т. е., как объясняет д-р, - "Сулейман, пожиратель сулемы". - "Ага!" воскликнул г. Торлтон: "вот, я вас и поймал!" И в примечании вдвое длиннее докторского анекдота он высказывает сомнение в знании Пуквиллем турецкого языка и свою уверенность в собственных познаниях. "Ибо", замечает г. Торнтон (угостив нас грубыми причастиями турецкого глагола), "это значит не более, как "Сулойман едок", а дополнение - "сулема", совершенно отпадает. Оказывается, однако, что оба правы и оба ошибаются. Если г. Торнтон, в следующий раз, когда ему придется "прожить около 14 лет в фактории", заглянет в турецкий словарь или спросить кого-нибудь из своих стамбульских знакомцев, то он увидит, что "Сулейман ейен", если так разделит слова, значит именно "пожиратель сулемы" и что никакого "Сулеймана" тут нет: "сулейма" значит - сулема, и, будет правоверным именам. Судя по размышлениям г. Торитона, полными глубокого ориенитализма, ему следовало бы убедиться в этом раньше, чем петь свой победный пэан по поводу "ошибки" д-ра Пуквилля.
После этого, я думаю, нашим девизом должно быть: "путешественники против торговцев", хотя вышесказанный г. Торнтон и осудил "hoc genus onme" за ошибки и искажение фактов. "He sutor ultra crepidam". --"Topговец, суди не выше своих тюков". NB для г. Торнтона: "Sutor" - не собственное имя. (Примечание Байрона).}
Какими бы недостатками не отличались эти источники, их все-таки следует предпочесть парадоксам людей, которые поверхностно читали древних и ничего не видели у новых, как Де-Паув; уверяя, что английская порода лошадей попорчена Нью-маркетом и что спартанцы были трусливы в сражениях, он обнаруживает одинаково основательное знание английских лошадей и спартанских людей. Его "философския" замечания с большим правом могли бы называться "поэтическими". Нельзя, конечно, ожидать, чтобы человек, так легко осуждающий некоторые из наиболее знаменитых учреждений древней Греции, отнесся снисходительно к современным грекам; по счастью, нелепость его предположений относительно их предков опровергает его мнения о потомках.
достаточно за них наказано тремя с половиною столетиями рабства.
III.
Афины, Францисканский монастырь, 17 марта, 1811 г.
"Поговорю с ученым сим фиванцем" {Король Лир,
Несколько времени спустя по возвращении моем сюда из Константинополя, я получил No 31 "Эдинбургского Обозрения". Это была большая и, конечно, в столь отдаленной стороне вполне приемлемая любезность со стороны капитана одного английского фрегата, стоящого в Саламине. В этом No статья 3 заключает в себе отчет о французском переводе Страбона, с некоторыми замечаниями о нынешних греках и их литературе и со сведениями о Кораи, участвовавшем во французском переводе {Диамант, или Адамантий Кораи (1718--1833), ученый филэллин, высказал свои взгляды на будущность Греции в предисловии к переводу трактата Беккария "О преступлениях и наказаниях" (1764), изданному в Париже в 1802 г. В 1805 г. он начал издавать "Bibliothèque Hellénique" (вышло 17 томов). По происхождению он был хиосец, но родился в Смирне. Его автобиография вышла в Афинах, 1891.}. Эти замечания дают мне повод сделать с своей стороны несколько заметок, а место, где я их теперь пишу, послужит, надеюсь, достаточным извинением в том, что я включил их в сочинение, до некоторой степени к этому предмету относящееся. Кораи, наиболее знаменитый из ныне живущих греков, - по крайней мере во Франции, родился на острове Хиосе (в Обозрении показаниям некоторых недавно прибывших из Парижа датских путешественников; последний виденный нами здесь греко-французский словарь принадлежит Григорию Золикоглу {"У меня имеется превосходный "трех-язычный" (τρίγλωσσον) словарь, полученный мною от г. С. Г. в промен на небольшую гемму; мои друзья антикварии никогда не забывали и не прощали мне этого" (Примечаншие Байрона). Название словаря: [Λεξικόν τοὶγλωσσον τῇς Γαλλικῇς, Ἰταλικῆ; και Ῥομαϊκης διαλέκτου], 3 тома, Вена 1790. Сост. Георгий Вендоти из Янины. В 1854 г. эта книга принадлежала Гобгоузу.}. Кораи недавно вступил в нелюбезные пререкания с г. Гэлем, парижским комментатором и издателем нескольких переводов из греческих поэтов {"В брошюре Гэля против Кораи он говорит, что "выбросит нахального эллиниста в окно". По этому поводу один французский критик восклицает: "Ах, Боже мой! Выбросить эллиниста в окно! Какое святотатство!" Вероятно, писатели, проникнутые аттицизмом, относятся к этим словам серьезно; но я привел эти фразы только для того, чтобы указать на сходство стиля у полемистов во всех образованных странах; Лондон и Эдинбург едва ли могут сравняться в изступлении с этими парижанами" (Примеч. Байрона). Жан-Батист Гэль (1755--1829) был профессором греческого языка в Collège de France.}; пререкания эти начались из-за того, что французский Институт присудил Кораи премию за ею перевод сочинения Иппократа "Περἱ ὐδάτων" и пр., к обиде и неудовольствию сказанного г. Гэля. Его литературные и патриотическия произведения, без сомнения, заслуживают большой похвалы; но известная доля этой похвалы должна принадлежать также и двум братьям Зосимадо (купцы, живущие в Легхорне), которые послали его в Париж и дали ему средства именно на исследования, касающияся древних и новейших его соотечественников. Надо прибавить, что греки не находят, чтобы Кораи сравнялся с кем-либо из писателей, живших в течение последних двух столетий и в частности с Дорофеем Митиленским, сочинения которого находятся у греков в таком уважении, что Мелетий называет его "лучшим из греческих писателей после Фукидида и Ксенофонта" ("Μετἀτὸν Θουκυδὶδην καὶ Ξενοφὠντα ἀριστος Ἑλληνων").
пользуются высокою репутациею в литературном кругу. Последний издал, на ромейском и латинском яэыках, сочинение "Об истинном счастии", посвященное Екатерине II {Дорофей Митиленский, писатель XVI века, архиепископ Монемвасии (по-английски "Malmsey"), на юго-восточном берегу Лаконии, был автором "Всемирной Истории" (Βιβλιον Ἱστορικόν), изд. в Венеции, 1637. Мелетий Янинский (1661--1714) был архиепископом афинским. Его главное сочинение - "Древняя и новейшая география", изд. в Венtции, 1728. Он написал также "Церковную Историю" в 4-х томах. Панайот Кодрики, профессор греческого языка в Париже, издал в Вене, к 1794 г., греческий перевод разговора Фонтенеля "О множестве мировъ* (переведенного также на русский язык кн. А. Д. Кантемпром). Иоанн Камаразис, константинополец, перевел на французский язык апокрифический трактат De Universi Natura, приписываемый Оцеллу Лукану, философу пифагорейской школы, будто бы процветавшему в Лукании в 5-м веке до Р. X. Христодул, из Акарнании, напечатал в Вене, в 1786 г., сочинение "О философах, философии, физике, метафизике" и пр. Афанасий Исалида издал там же, в 1791 г., "Истинное счастие". Байрон и Гобгоуз познакомились с ним в Янине, где он был учителем". "Это был", говорит Гобгоуз, "единственный человек, имевший, хотя и небольшое, собрание книг".}. Что касается Полизоиса, о котором автор статьи говорит, что он единственный из нынешних греков, после Кораи, отличившийся знанием древнегреческого языка, то если это Полизоис Лампанитциот из Янины, напечатавший несколько изданий на ромейском языке, то он был ни больше, ни меньше, как странствующий книгопродавец и к содержанию продаваемых им книг не имел никакого отношения, кроме того, что на их заглавных листах выставлено было его имя для ограждения его издательской собственности; кроме того, что был человек, совершенно лишенный каких-либо научных сведений. Впрочем, так как это имя попадается нередко, то, может быть, и какой-нибудь другой Полизоис издал послания Аристенета.

Следует пожалеть о том, что система континентальной блокады закрыла те немногие пути, через которые греки получали свои издания, в особенности - Венецию и Триест. Даже самые простые буквари для детей слишком вздорожали для низших сословий. Из числа оригинальных греческих сочинений следует упомянуть о географии афпнского епископа Мелетия; существует также много толстых книг богословского содержания и небольших книжечек стихотворений; их грамматики и словари для двух, трех и четырех языков довольно многочисленны и превосходны. Стихотворения у них рифмованные. Одна из самых замечательных вещей, недавно виденных мною, это - сатира в виде разговора между русским, английским и французским путешественниками и валахским воеводой (Влах-бей, как они его называют), затем - архиепископом, купцом и деревенским старостою (Коджабаши). Всех этих лиц, после турок, автор считает виновниками нынешняго печального состояния Греции. У них есть также красивые и патетическия песни, но их мотивы большею частью неприятны для европейского уха; лучшая из них, - знаменитая песнь: "Возстаньте, сыны Эллады"! принадлежит злополучному Риге {Константин Рига (1753--1793), автор "греческой марсельезы", был выдан австрийцами туркам и разстрелян в Белграде.}. Но в лежащем теперь передо мною каталоге более 60-ти писателей я мог найти только 15 таких, которые писали о других предметах, кроме богословских.
Один афинский грек, по имени Мармароутри, дал мне поручение устроить, если будет возможно, печатание в Лондоне перевода на ромейский язык "Анахарсиса" Бартелеми; если бы это не удалось, ему придется послать рукопись в Вену через Черное море и Дунай.
Автор статьи упоминает об одной школе, основанной в Экатонеси и закрытой по настоянию Себастиани. Дело идет о Сидонии или, по-турецки, Гайвали; это город на материке; там и до сих пор еще существует упомянутое учреждение с сотнею учащихся в тремя профессорами. Порта, действительно, хотела закрыть это заведение, под смешным предлогом, что греки вместо школы строют крепость; но по разследовании дела и по уплате Дивану нескольких кошельков его оставили в покое. Главный профессор, по имени Вениамин, говорят, человек талантливый, но свободомыслящий. Он родился на Лесбосе, учился в Италии, хороший знаток древнегреческого, латинского и отчасти французского языка; понятия его о науках поверхностны {Экатоннеси ("сто островов") группа островов в Адрамиттском заливе, против гавани и города Айвали или Айвалика. "Сидония" - вместо греческого Κνδονἰς. "В Гайвали или Кидонисе, насупротив Митилены, находится нечто вроде университета, с сотней студентов и тремя профессорами, под управлением одного митиленского грека, который преподает не только древнегреческий язык, но также и латинский, французский и итальянский". (Гобгоуз).
Хотя в мои намерения не входит говорить об этом предмете подробнее, чем это требуется содержанием разбираемой статьи, однако я не могу не заметить, что жалобы автора на падение греков представляются странными, когда он заключает их такими словами: "Эта перемена должна быть объясняема скорее их злополучиями, нежели каким-либо физическим вырождением". Может быть, и справедливо, что греки физически не выродились, и что в Константинополе, в тот день, когда он переменил своих обладателей, было столько же людей шести футов и выше ростом, как и в дни его благоденствия; во древняя история и современная политика поучают нас, что для сохранения силы и независимости государства необходимо не одно только физическое совершенство; в частности же греки являются грустным примером тесной связи между нравственным вырождением и национальным падением.
Автор статьи упоминает о плане "кажется" Потемкина касательно очищения ромейского языка; я тщетно пытался добыть какие-нибудь указания на этот план или отыскать следы его существования. В Петербурге существовала для греков академия; но она была закрыта Павлом и не открылась вновь при его преемнике.
* * *
В No 31. "Эдинбургского Обозрения" находится ошибка, которая, конечно, может быть только опиской: там сказано: "Говорят, что когда столица Востока сдалась Солиману..." "Константинопольския дамы", повидимому, в ту эпоху говорили на диалекте, "которого не постыдились бы уста афинянки"! Не знаю, как было в действительности, но, к сожалению, должен сказать, что дамы вообще, а афинянки в частности, очень изменились; оне далеко не разборчивы в своем диалекте или в своих выражениях; да и все аттическое племя сделалось варварским, оправдывая пословицу:
{* "В одном из прежних нумеров "Эдинбургского Обозрения" за 1808 год замечено: Лорд Байрон в ранней молодости провел несколько лет в Шотландии, где мог узнать, что pibroch не значит "волынка" и что duet значит "скрипка". Вопрос: не в Шотландии ли молодой джентльмен из "Эдинбургского Обозрения" узнал, что "Солиман" значит "Магомет II" и что "критика" значит "непогрешимость". То-то вот и есть:
Caedimus, inque vicem raebemus crura sagittis.
(Persius, Sat. IV, 42).
Ошибка до такой степени очевидно представляется опиской (вследствие большого обоих слов и полного отсутствия ошибок на предыдущих страницах этого литературного левиафана), что я прошел бы ее молчанием, если бы не замечал в "Эдинбургском Обозрении" весьма смешливого восторга по поводу всех подобных открытий, в особенности одного недавняго, при котором слова и слоги были подвергнуты разбору и перестановке; а вышеприведенный параллельный отрывок на мой счет неудержимо побуждал меня к размышлению о том, что гораздо легче критиковать, нежели быть корректных. Джентльмены, триумфом по поводу таких побед, едва ли могут претендовать на меня за легонькую овацию по поводу настоящого случая".
В конце рецензии на Чайльд-Гарольда, помещенной в февральской книжке "Эдинбургского Обозрения" 1812 г., издатель включил тяжеловесное возражение на эту безобидную и добродушную шутку Байрона: "Мы не чувствуем надобности смущать наших читателей ответом на подобные замечания благородного автора. Заметим только, что если мы с удивлением смотрели на ту безмерную ярость, с какого несовершеннолетний поэт отнесся к невинной шутке и умеренному порицанию в нашей рецензии о первом его сочинении, то теперь можем чувствовать только сожаление при виде странной раздражительности его темперамента. которая побуждает его все еще чувствовать личную досаду из-за такой причины, или хранить память о личностях, которые если и были оскорбительны, то в такой же мере были предосудительны для их авторов").
Ὄ ᾽Αϑήναι, πρὼτη χὼρα,
Τί γα δάγονς τρέφεἲς τὼρα {*};
{* "О Афины, первая страна в мире, - отчего ты теперь питаешь только ослов?"}
У Гиббона, т. X, стр. 161, читаем: "Народный диалект города был грубый и варварский, хотя сочинения церковные и придворные иногда и пытались подражать чистоте аттических образцов". Что бы ни говорили об этом предмете, трудно себе представить, чтобы "Константинопольския дамы" в царствование последняго императора говорили на диалекте более чистом, нежели тот, на котором писала Анна Комена {Анна Комнена (1083--1148), дочь императора Алексея I, написала "Алексиаду", историю царствования своего отца.} за триста лет перед тем; а её сочинения вовсе не считаются образцовыми по слогу, хотя принцесса и отличалась стремлением к аттицизму (γλὼτταν εἰνεν ἀκριβὼς αττικιζουσαν как говорит Зонара). В Фанале и в Янине говорят по-гречески лучше всего; в Янине процветает школа под управлением Псалиды.
В настоящее время в Афинах находится один из учеников Псалиды, путешествующий по Греции; он умен и воспитан лучше любого ученика большинства из наших колледжей. Я упоминаю об этом в подтверждение того, что дух исследования еще не угас среди греков.
Автор статьи указывает на г. Райта, автора прекрасной поэмы Horae Ionicae, как на лицо, которое может сообщить подробные сведения о так называемых римлянах и выродившихся греках, а также и об их языке: но г. Райть, хотя и хороший поэт и способный человек, однако ошибается, утверждая, что албанский диалект ромейского языка ближе всего подходит к древне-греческому: албанцы говорят на ромейском языке столь же испорченном, как шотландский в Эбердиншире или итальянский в Неаполе. Янина (где, так же, как и в Фанале, греческая речь всего чище), хотя и столица младший Али-паши находится не в Албании, а в Эпире; а по ту сторону Дельвинаки в собственной Албании, к Аргирокастро и Тепалину (далее которых я не ездил), по-гречески говорят даже хуже, чем в Афинах. У меня полтора года служили двое горцев, которых родной язык - иллирийский, и я никогда не слыхал, чтобы их или их земляков (которых я видел не только у себя дома, но двадцать тысяч в армии Вели-паши), кто-нибудь похвалил за их греческую речь; напротив, над ними часто смеялись за их провинциальные варваризмы.
Вели-паши). Эти письма считаются хорошими образцами эпистолярного стиля. Я получил также в Константинополе, от частных лиц, несколько писем, написанных в очень гиперболическом стиле, но в совершенно древней манере.
После нескольких замечаний о прежнем и нынешнем состоянии греческого языка, автор статьи высказывает парадокс о большом неудобстве, какое испытывает Кораи вследствие знания своего родного языка: ему, будто бы, труднее понимать древний греческий язык оттого, что он в совершенстве владеет новым. За этим замечанием следует параграф, в котором усердно рекомендуется изучение ромейского языка, как "могучого пособия" не только для путешественника и купца, но и для изучающого классическую древность, словом для каждого, за исключением только одного лица, которое в совершенстве этим языком владеет; с помощью такого же разсуждения автор приходит к выводу, что и наш собственный язык, вероятно, легче изучить иностранцу, нежели нам самим. Я склонен однако думать, что голландец, изучающий наш язык (хотя и сам саксонского происхождения), станем в тупик перед "Сэром Тристрамом" {Роман XIII столетия, изданный В. Скоттом.} или какою-нибудь "Аучинлекскою рукописью", хотя бы и с грамматикой и словарем; мне представляется очевидным, что только туземец может приобрести полное знание наших устаревших идиомов. Мы можем похвалить критика за остроумие, но поверим ему не больше, чем смоллетовскому капитану Лисмахого, который уверяет, что чистейшим английским языком говорят - в Эдинбурге. Что Кораи может ошибаться, - это очень вероятно; но если он и ошибается, то вина ошибки падает на него самого, а не на его родной язык, который несомненно представляет, и должен представлять очень сильное пособие для ученого грека. Далее автор переходит к переводу Страбона, и я прекращаю свои замечания.
Сэр В. Друммонд, г. Гамильтон, лорд Эбердин, доктор Кларк, капитан Лик, г. Джелл, г. Вальполь и многия другия лица, находящияся теперь в Англии, имеют полную возможность сообщить разные подробности об этом павшем народе. Сделанные мною немногия замечания я оставил бы там, где я их написал, если бы упомянутая статья, а в особенности - то место где я ее прочитал, не побудили меня обратиться к этому предмету и воспользоваться выгодами моего положения, для разъяснений, или, по крайней мере, для попытки таковых.
Я считал долгом подавлять личные чувства, которые помимо моей воли вызываются во мне прикосновением к не из желания приобрести благосклонность сотрудников этого журнала или загладить воспоминание хотя бы об одном слоге из того, что мною напечатано было ранее, а просто из сознания неуместности примешивать личное раздражение к обсуждению настоящого предмета, в особенности же при таком отдалении по времени и месту.
Добавочная заметка о турках.
Трудности путешествия по Турции были сильно преувеличены, или лучше сказать, в последние годы значительно уменьшились. Мусульманам вколотили своего рода угрюмую вежливость, очень удобную для путешественников.
О турках и Турции рискованно было бы говорить много, так как можно между ними прожить двадцать лет и не приобрести никаких сведений, - по крайней мере от них самих. Насколько простирались мои поверхностные наблюдения, я но имею повода жаловаться; но я обязан многими любезностями (я мог бы даже сказать - дружбой) и радушным гостеприимством Али-паше, его сыну Вели-паше Морейскому и разным другим лицам, занимающим высокое положение в провинциях. Сулейман-ага, бывший недавно губернатором в Афинах, а теперь - в Фивах, быль "бонвиван" и так любил общество. что всегда сидел, поджавши ноги, за подносом или за столом. Во время карнавала, когда наша Английская компания вздумала маскироваться, он и его преемник принимали "масок" радушнее, чем любая вдовствующая особа на Гросвенор-сквере.
падение.
Во всех денежных делах с мусульманами я всегда встречал самую строгую честность и величайшее безкорыстие. В сделках с ними нет и помина о тех грязных вымогательствах под наименованием процентов, курсовой разницы, коммиссионных и пр. и пр., которые всегда являются на сцену, когда приходится обращаться с чеком к греческому консулу, даже в первых банкирских домах Перы.
Что касается установившагося на Востоке обычая подарков, то в этом отношении вы редко окажетесь в убытке, так как подарок, достойный внимания, обыкновенно возвращается к вам в виде равноценного подарка - лошади, шали и т. и.
В столице и при дворе граждане и придворные прошли ту же самую школу, что и христиане; но трудно найти человека более почтенного, ласкового и благородного, чем настоящий турецкий провинциальный ага или мусульманский деревенский джентльмен. Я говорю не о губернаторах городов, а o тех агах, которые, так сказать, на вассальных правах владеют более или менее обширными землями и домами в Греции и Малой Азии.
Низшие классы населения дисциплинированы настолько же сносно, как и чернь в странах с большими претензиями на цивилизацию. Мусульманин, идя по улицах в наших провинциальных городах, чувствовал бы себя менее спокойно, чем европеец в подобных же условиях в Турции. Самый лучший костюм для путешественника - военная форма.
пренебрежения. Они по крайней мере равны испанцам и, конечно, выше португальцев. Трудно решительно сказать, что они представляют собою, но за то можно сказать, чего они не представляют: они не обманчивы, не трусы, не жгут еретиков, не не подступал к их столице. Они верны своему султану до тех пор, пока он не станет неспособен к правлению, и служат своему Богу без инквизиции. Если завтра их выгонят из св. Софии и на их месте сядут французы или русские, то еще вопрос, выиграет ли Европа от такой перемены. Англия, во всяком случае, проиграет.
Что касается невежества, в котором их вообще и иногда справедливо обвиняют, то позволительно спросить, - в каких собственно полезных областях знания они стоят ниже прочих наций, конечно, за исключением Франции и Англии. В обычных ремеслах? В мануфактуре? Разве турецкая сабля хуже толедской? Разве турок живет, одевается, кормится, учится хуже испанца? Разве их паши воспитаны хуже грандов, или эффенди - хуже кавалеров ордена Сант-Яго? Не думаю.
Я помню, как Махмуд, внук Али-паши, спрашивал, состою ли я и мои товарищ по путешествию членами верхней или нижней палаты парламента. Этот вопрос, заданный десятилетним мальчиком, показывает, что его воспитанием не пренебрегали. Позволительно усомниться, известно ли английскому мальчику в этом возрасте различие между диваном и коллегией дервишей; и я вполне уверен, что испанец этого не знает. Каким образом маленький Махмуд, окруженный исключительно турецкими воспитателями, узнал о существовании такой вещи, как парламент, - об этом безполезно было бы и догадываться, если не допустить, что его учителя не ограничивали своего преподавания одним Кораном.
не напечатана (хотя турецкая печать существует и печатаются книги о недавних военных реформах низам-джедида); я не слыхал также, чтобы муфти и муллы жаловались, или чтобы каймакам и тефтердар тревожились из опасения, что туземная чалмоносная молодежь научится "молиться Богу не по-нашему". Греки - здесь нечто вроде ирландских папистов - также имеют собственное учебное заведение в Майнуте, - нет в Гайвали, где неверные пользуются со стороны оттоманов гораздо большим покровительством, нежели католическая коллегия со стороны английского законодательства. Кто решится утверждать, что турки - невежественные ханжи, если они таким образом выказывают христианское милосердие точно в тех же размерах, какие допускаются в самом благоденствующем и правоверном из всех возможных королевств? Но, хотя они все это и дозволяют, они не допускают греков к участию в своих привилегиях: нет, греки должны сражаться, платить свой "харач" (дань), получать палочные удары на сем свете и вечное осуждение в будущем. А мы освободим ли мы своих ирландских илотов? Избави, Магомет! Так, стало быть, мы - плохие мусульмане и еще более плохие христиане: в настоящее время мы соединяем в себе наилучшия свойства тех и других - иезуитскую веру и терпимость только чуть-чуть поменьше турецкой.

Приложение.
Среди народа порабощенного, вынужденного прибегать к иностранным типографиям даже для печатания своих религиозных книг, следует удивляться не столько тому, что мы находим так мало изданий, посвященных общим вопросам, сколько тому, что подобные издания вообще существуют. Общее количество греков, разсеянных по Турецкой империи и в других местах, составляет, вероятно, не больше трех миллионов; и при столь незначительной численности нельзя найти другого народа с таким большим, относительно, количеством книг и писателей, как у греков вашего столетия. "Да", скажут великодушные адвокаты притеснения, которые, уверяя в невежестве греков, хотят предупредить возражения: - "да, конечно; но это все, или почти все, - сочинения церковные, а стало быть - ни к чему не годные". Хорошо; о чем же другом они могут писать? Довольно забавно слышать разсуждения европейца, а в особенности - англичанина, который может злоупотреблять правительством собственной страны, или француза, который может злоупотреблять властью всякого правительства, кроме своего собственного, и разсуждать сколько угодно о любом предмете философском, религиозном, научном или моральном, подсмеиваясь над греческими легендами. Но грек о политике писать не смеет, а науки касаться не может - по недостатку образования; если он сомневается в религии - его отлучают и осуждают; таким образом, его соотечественники не отравлены современной философией; а что касается морали, то, благодаря туркам, подобных вещей у греков не имеется. Что же остается греку, если он чувствует литературное призвание? Только религия, да жития святых; и вполне естественно, что люди, которым так мало оставлено в этой жизни, размышляют о жизни будущого века. Оттого и нет ничего удивительного, если в лежащем теперь передо мною каталоге пятидесяти пяти греческих писателей, из которых многие еще недавно были в живых, не более пятнадцати касаются иных предметов, кроме религиозных. Упомянутый каталог находится в 26-й главе 4-го тома "Церковной Истории" Мелетия {В подлиннике "Приложения" обширнее. Предыдущия строки служат только предисловием к особому приложению, под заглавием: "Замечания о ромейском или новогреческом языке, с образцами и переводами", которое было напечатано в конце книги в первом и следующих изданиях "Чайльд-Гарольда". Оно заключает в себе: 1) список новогреческих писателей; 2) греческую боевую песнь: Δεῦτε, παὶδες τῶν Ἑλλὴνῶν; 3) "ромейские отрывки", из которых первый,--"сатира в виде разговора" переведен; 4) сцена из комедии Ὀ Καφενες (Кафе), переведенной с итальянского из Гольдони, Спиридоном Вланди, с переводом"; 5) "обыкновенные разговоры" на ромейском и английском языках; 6) параллельные места из Евангелия Иоанна; 7) "Орхомейския надписи" из Мелетия; 8) "Известие о переводе на ромейский язык, сделанном моим ромейским учителем Мармаротури, который желал напечатать этот перевод в Англии"; 9) "Молитву Господню на древне- и новогреческом языках".}.